Произведения Виктора Некрасова
В окопах Сталинграда
Повесть
— М. : Советский писатель, 1947
(журнальное название «Сталинград» : роман // Знамя.
— 1946. — № 8—9. — С. 3—82; № 10 — С. 38—146)
Единственный раз отдельной книгой под названием «Сталинград»
повесть вышла в издательстве «Московский рабочий», М., 1946.
Повесть удостоена Сталинской премии 2-й степени за 1946 г. (июнь 1947 г.)
Она переиздавалась общим тиражом
более четырех миллионов экземпляров и
была переведена на 36 языков.
Виктор Некрасов читает по «Радио Свобода»
отрывки из повести «В окопах Сталинграда»
1985
Отступление. I—IV главы I части.
Рассказ об ординарце Валеге.
Рассказ о лейтенанте Фарбере.
Описание суда над офицером, бросившим солдат в безрассудную атаку.
Как сталинградцы отмечали победу в Сталинградской битве.
Фрагмент выступления Всеволода Вишневского на встрече с демобилизованными писателями 25 мая 1946 года (Публикация в журнале "Новый мир" 1958, № 2).
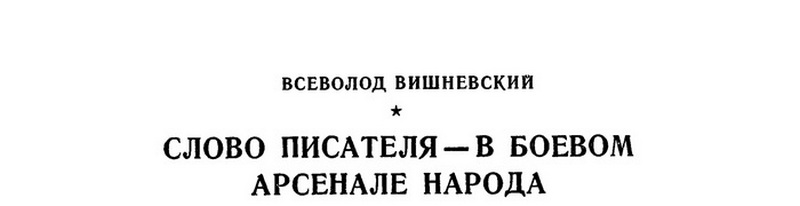
***

***
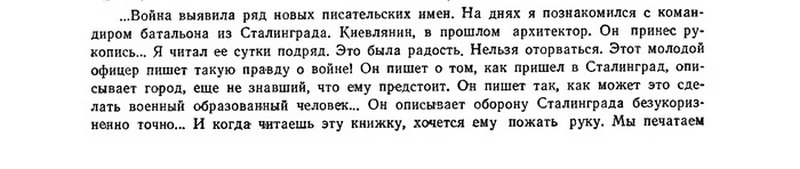
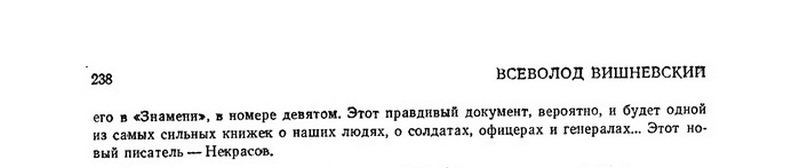
***
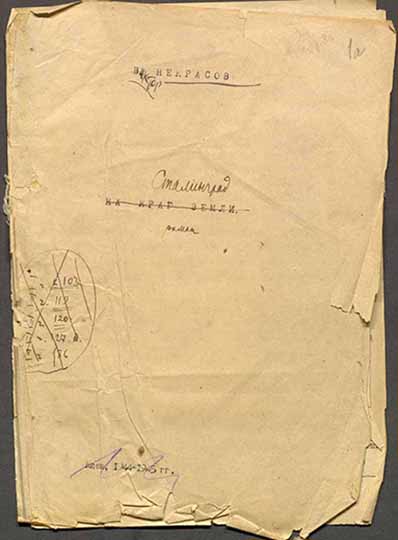 |
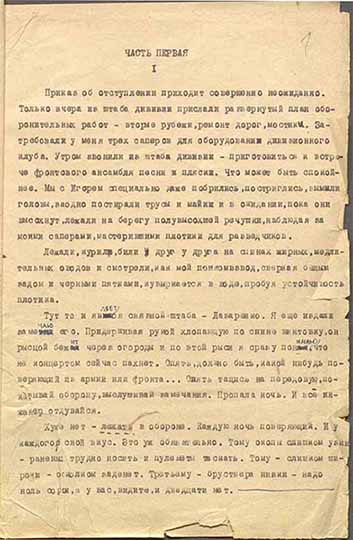 |
Заглавная страница.
Авторское название «На краю земли»
заменено редактором на «Сталинград» |
1-я страница
|
* * *
Часть первая (опубликована в журнале "Знамя" 1946, № 8-9)
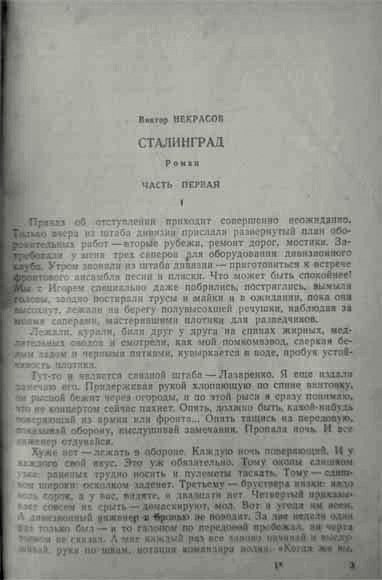 1-я страница романа в журнале
.
1
1-я страница романа в журнале
.
1
Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков.
Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика.
Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять, должно быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.
Хуже нет — лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно выносить и пулеметы таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему — брустверы низки: надо ноль сорок, а у вас, видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их срыть — демаскируют, мол. Вот и угоди им всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинай и выслушивай — руки по швам — нотации командира полка:
"Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?.."
Лазаренко перепрыгивает через забор.
— Ну? В чем дело?
— Начальник штаба до себя кличуть,— сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.
— Кого? Меня?
— I вас, i начхiма. Щоб чрез пять минут були, сказав.
Нет, значит, не поверяющий.
— А в чем дело, не знаешь?
— А бiс його знае.— Лазаренко пожимает пропотевшими плечами.— Хiба зрозумiеш... Всiх связних розiгнали. Капiтан як раз спати лягли, а тут офiцер связi...
Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают.
Максимова — начальника штаба — нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко — командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу.
— Штадив грузится. Вот и все...
Больше он ничего не знает.
Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит:
— Только дезокамеру наладили, а тут срывайся, к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребутся бойцы до крови. Никак не выведешь...
Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев — командир ПТР* — презрительно улыбается:
— Что дезокамера... У меня половина людей с такими вот спинами лежит.
После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают...
Сергиенко вздыхает:
— А может, на переформировку, а?
— Ага...— криво улыбается Гоглидзе, разведчик.— Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте не дождутся.
Никто ничего не отвечает. На севере все грохочет. Над горизонтом далеко—далеко, прерывисто урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики.
————————————————————————————————————————
* ПТР — противотанковое ружье. (Это и последующие примечания принадлежат автору.)
— На Валуйки прут, сволочи.— Самусев в сердцах сплевывает.— Шестнадцать штук...
— Накрылись, говорят, уже Валуйки,— заявляет Гоглидзе: он всегда все знает.
— Кто это — "говорят".
— В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.
— Много они знают...
— Много или мало, а говорят...
Самусев вздыхает и переворачивается на спину.
— А в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.
Гоглидзе смеется.
— Верная примета. Точно. Как вырою, так, значит, в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удавалось.
Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Гоглидзе не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи — вызвали еще вчера в штадив.
Ничего больше не говорит, садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.
С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным — инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым,— копошатся в планшетках, что-то ищут в карманах.
Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.
Приходят комбаты: коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Каппель — комбат-два, и лихой, с золотым чубом и в залихватски сдвинутой на левую бровь пилотке командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков.
Оба козыряют: Каппель по-граждански — полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном — разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада.
Максимов встает. Мы тоже.
— Карты у всех есть? — Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла. Но он продолжает машинально посасывать.— Попрошу вынуть.
Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.
— Записывайте маршрут.
Записываем. Маршрут большой — километров на сто. Конечный пункт — Ново—Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.
Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.
— Ясна картина?
Никто не отвечает.
— По-моему, ясна. Выступаем в двадцать три ноль-ноль. Первый переход — тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.
Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был бы неплохим диктором.
— Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю — поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...
Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпускает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева.
— У тебя что есть, комбат?
Ширяев встает, одергивает гимнастерку.
— Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными — человек сорок пять.
— Вооружение?
— Два "максима". "Дегтярева" — три. Минометов восьмидесяти двух — три.
— А мин?
— Штук сто.
— А пятидесяти?
— Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.
Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнения. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.
— Та—ак...— Старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку.— Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход.
— По тому же маршруту? — сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.
— По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Все...
Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется Каппель, прерывисто вздыхает.
— Я сказал все! — круто поворачивается в его сторону Максимов.— По местам!
— Людей сейчас снимать? — тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого комбат-три.
Лицо Максимова сразу из бледного становится красным.
— Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов голову иметь на плечах...
Все встают, отряхивая песок и траву.
— А вы ко мне зайдите.— Это относится ко мне и Ширяеву.
В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны — моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль-ноль.
Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет.
— Немец к Воронежу подошел,— говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел.— Вчера вечером.
Мы молчим.
Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий — градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.
Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.
— Ты отступал в сорок первом, Ширяев?
— Отступал. От самой границы.
— От самой границы... А ты, Керженцев?
— Я — нет. В запасном был.
Максимов с рассеянным видом жует огурец.
— Дело дрянь, в общем... "Колечка" нам не миновать.— Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза.— Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня — много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи... Где—нибудь да мы будем. Не в Ново—Беленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев,— он строго глядит на меня,— до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами провалилась. Майор так и сказал: "Оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай". Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?
Ширяев улыбается.
— Да ну их к черту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много...
— Ладно. Заберем.
В землянку заглядывает штабной писарь — рыхлый, круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть — везти или сжигать. Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало,— там нет ничего нужного.
— Сжигай к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай!
Писарь уходит.
— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов почему-то на "вы", хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на "ты". Не дожидаясь ответа, добавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.
Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.
— Бабы говорят, близкий кто-то умрет.
— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты.— А вы женаты?
— Нет! — почти в один голос отвечаем мы.
— Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...
Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.
— Вы не москвич, Керженцев?
— Нет, а что?
— Да ничего... Знакомая у меня была Керженцева... Когда-то, до войны... Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?
— Нет, у меня в Москве никого нет.
Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что—то рассказать, но он или стесняется, или не решается.
Ширяев взглядывает на часы — маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается.
— Да—да... Идите,— скороговоркой говорит он,— идите, времени мало.
Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают.
Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади,— батальонные, по-видимому. Ширяев ухмыляется:
— Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как нет там.
Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет.
— Ну, идите,— говорит Максимов, протягивая руку.— Смотрите же...
Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки.
— Патроны береги, Ширяев, не транжирь.
— Есть, товарищ капитан!
— Смотри же...— И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода.
С Ширяевым мы уславливаемся — я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.
2
Не везет нашему полку. Каких—нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По два—три пулемета на батальон... И ведь совсем недавно только в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления.
Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.
Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город — два дня только. Пришел приказ: на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах.
Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немца через Оскол пустим.
А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась "рама" — двухфюзеляжный рекогносцировщик "фокке—вульф", и мы усиленно, и всегда безрезультатно, стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки "юнкерсов".
Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.
Жизнь текла спокойно. Даже "Правда" стала до нас добираться. Потерь не было никаких.
И вдруг как снег на голову — приказ...
На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец — и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить — и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался.
Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, врага... Громыхает там на севере,— ну и пусть громыхает, на то и война.
И вот как гром среди ясного неба в двадцать три ноль-ноль шагом марш...
И без боя... Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852—го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.
Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... А по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить...
— Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем? Новоиспеченный командир взвода, молоденький, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня.
— Мины будем грузить? — спрашивает.
— Машины не дали из штадива?
— Не дали.
— Закапывай тогда. На берегу остались еще?
— Остались. Штук сто.
— Ладно. Десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай.
— Ясно.
— Лопаты все?
— В третьем батальоне тридцать штук.
— Топай за ними. Живо!
Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган — старательный, только слишком старшины боится.
Да... Надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу...
В двенадцать, тихо погромыхивая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка.
Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходится совсем по—новому расставлять пулеметы. Вчера ушли уровцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать, сейчас осталось только пять: два "максима" и три "Дегтярева". Особенно не разгуляешься. Ставим "максимы" на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по—новому: фронт батальона увеличился больше чем в три раза. На километр выходит по десять — двенадцать бойцов, один от другого на восемьдесят — сто метров. Не густо, что и говорить!..
Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки — редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе — ширяевский КП* находится в подвале четырехэтажного, изрешеченного снарядами дома,— по-видимому, в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятами у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми, испуганными глазами, забирается в ящик с котятами. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.
———————————————————————
* КП — командный пункт.
3
Ночью минируем берег. Валега, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает и маскирует мины.
Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона, в прошлом сапер. Его дал мне Ширяев.
Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ—палаткой. Взлетают ракеты — одна за другой. Лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах. Приятно пахнет ночной влагой и сырой землей.
Ни Валеги, ни Бойко не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем.
Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим светом ракет.
Вспоминается наша улица — бульвар с могучими каштанами; деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные, они загромождали ящики, всем мешали, и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много их всегда было под большим диваном. Хороший был диван — мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали. После обеда на нем всегда отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, которое только для этого и служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары или "Анну Каренину". Потом искал очки. Они оказывались в буфете, в ящике с ложками. Когда находил, бабушка уже спала. А старый кот Фракас с обожженными усами жмурился из-под облезшего воротника...
Бог ты мой, как все это давно было!.. А может, никогда и не было, только кажется...
Направо большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом прорубили в коридоре дверь и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами. На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными именинами — двадцать четвертого октября.
За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов.
Дальше идет ночной столик... Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столик. Он набит мягкими клетчатыми туфлями, а в его ящике — коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться. Там же и стаканчик для валерьянки — чтоб кот не нашел...
И все это сейчас там... у них.
Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно, открылся цирк и музкомедия. А в общем: "Пиши чаще, хотя я и знаю, что у тебя мало времени,— хоть три слова..."
С тех пор прошло десять месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть... На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста: какие-то ноги в высоких ботиках. А справка — марка: станция метро "Маяковская".
В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве... Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке, слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой — зеленой и красивой. Стояла, склонившись над столом, и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами...
Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве — эту бородавку.
Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем... Никогда уж она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: "Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Юрок. Может, спать раньше ляжешь?" Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю...
Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим в аромате цветущих лип киевским улицам, ездить летом на пляж, на Труханов остров...
Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...
Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около Шанцера — это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось нам в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы скульптуры вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, словно пламя, красными ленточками и какой—то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом Шанцере!.. "Индийская гробница", "Багдадский вор", "Знак Зерро"... Бог ты мой, даже дух захватывает!.. А чуть подальше, около Прорезной, в тесном, с ненумерованными местами "Корсо" шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками... А в "Экспрессе" — потом он почему-то стал прозаическим "Вторым Госкино" — шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой Нильсен и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в "Экспрессе" был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу.
Сворачиваю на Николаевскую. Это самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно—белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные "линкольны" у "Континенталя". А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшней встрече Данилы Пасунько с Маской смерти.
А дальше Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка с не то готическими, не то романскими башенками по углам... Тихие сонные Липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни. Уютные особнячки с запыленными окнами... Столетние вязы дворцового сада... Шуршащие под ногами листья... И — стоп! — обрыв. Дальше — Днепр, и синие дали, и громадное небо, и плоский, ощетинившийся трубами Подол, и стройный силуэт Андреевской церкви, нависшей над самой пропастью, шлепающие колесами пароходы, звонки дарницкого трамвая...
Милый, милый Киев...
Как все это сейчас далеко! Как давно все это было, боже, как давно! И институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные, такие короткие ночи перед экзаменами, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл...
Нас было шестеро неразлучных друзей — Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижева и веселый маленький Шурка Грабовский. Его почему-то все "Чижиком" звали. Вместе учились, вместе всегда за город ездили. Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт — в одну мастерскую пошли. Только-только принялись за работу, новые рейсшины, готовальни купили, и...
Чижик под Киевом погиб — в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале — обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзал. Анатолий связистом будто стал — кто-то говорил, не помню уже кто.
А Люся?.. Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли... У нее старая больная мать, я писал ее тетке в Москву, и та ничего не знает. Два года тому назад, как сейчас помню, пятого июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутригер, легкий, быстрый, с подвижными сиденьями, и поехали туда, далеко, за Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко — маленький, затерявшийся среди камышей и ракит очаровательный пляжик. Этого места никто не знал, и там никогда никого не бывало. Вода там прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу... Потом, усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели в дворцовом парке и слушали Пятую симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие, красные, декоративные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице...
— Третий ряд будем делать? — спрашивает кто—то над самым моим ухом.
Я вздрагиваю.
Валега, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами.
— Третий ряд... Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок, у пристани.
Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук.
4
Утром над нашим расположением долго кружится "мессершмитт". Мы огня не открываем — экономим боеприпасы. Две большие партии "хейнкелей" и одна "юнкерсов-88" на большой высоте проплывают на северо-восток.
Часов в семь вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенантик, в новенькой фуражке с красным околышем, от нашего правого соседа — третьего батальона 852—го полка. Расспрашивает, как и что у нас и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят. Пулеметов пять. Зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно.
С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами — старыми ботинками, седлами, мешками с тряпьем. Ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух вороного мерина Сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами.
— Такие ботинки бросать! Бога побоялся бы. Впереди еще столько колесить.— И он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки.
Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда—то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки.
Ровно в двенадцать даем последнюю очередь. Прямо отсюда, со двора, и уходим.
Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает.
Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, ощетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено тринадцать дней и ночей, вырытое, перекрытое в три или четыре наката, старательно замаскированное травой и ветками,— все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной, вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой, свежей травкой. И только детишки, по колено в воде, будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...
Мы идем сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно, должно быть, посаженным. Проходим мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован. Смутно белеют в темноте свежеобструганные сосенки. На плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия.
Петропавловка — бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить.
Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев.
И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток по азимуту сорок пять.
Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.
— Я лучше знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья — все забыли. Пришлось к химикам ходить.
Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли — через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда, как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками — с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться.
Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю — будет привал, и он расстелет плащ-палатку на сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке — молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет.
О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что — не говорит. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волегов, с ударением на первом "о". Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю.
Мы редко с ним разговариваем — он молчалив и замкнут. Один только раз он чуть—чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три тому назад. Мы дьявольски промокли и устали. Сушились у костра. Я выкручивал портянки, он в консервной банке варил пшенный концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть.
Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем.
С трубкой во рту, освещенный красноватым пламенем костра, он был похож на гнома, готовящего волшебное варево.
— Когда кончится война,— сказал он,— я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить...
Я улыбнулся:
— Почему именно три недели?
— А сколько же? — Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равнодушно мешал кашу.— Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи, и лоси, и щуки по пятнадцать фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите.— Он вынул и облизал ложку.— И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему.
На этом разговор и кончился.
Сейчас я смотрю на него и спрашиваю:
— Ну как, Валега, когда же мы твоих пельменей попробуем?
Он даже не улыбнулся.
— Мяса такого нет. И приготовить его здесь по—настоящему нельзя.
— Значит, до конца войны ждать будем?
Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики — носки загнулись кверху, а пилотка мала: торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты три иголки с белой, черной и защитного цвета нитками.
Часов в семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в двадцати двух километрах. Значит, прошли мы около тридцати. Это неплохо, дорога трудная.
Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где—то буханку белого хлеба и мед в сотах.
Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу.
Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Прямо хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках — были бы отремонтированы сапоги. А теперь кто его знает, когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, километров за семьдесят — восемьдесят. Если они эти два дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где—нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что "ранком в недiлю проходили солдати. А у вечерi пушки йшли". Должно быть, наши дивизионки. "Тiльки годину постояли i далi подались. Такi заморенi, невеселi солдати".
А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева? Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией; противника — синей. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону Оскола. А сейчас?
Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в три—четыре начали переправлять пехоту. Даже позже: сборы, приказы и тому подобное — часов в пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее нет у них. А пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра, на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки.
Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стала тише и передвинулась на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина.
Солдаты толкутся у котла с кулешом. Как всегда, ворчат, что мало наливают. Трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки.
— Будем трогаться, что ли?
Сощурив глаза, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета.
— Вот хлопцы покушают, и двинем. Минут двадцать, не больше.
— Сколько до Ново-Беленькой осталось?
— Километров шестьдесят-семьдесят. Вон карта лежит.
Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров.
— Два перехода еще.
— Если поднажмем — завтра к обеду будем.
— Быть—то будем, но застанем ли мы там кого. Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина...
Подходит адъютант старший, весь красный от веснушек, лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается, закуривает.
— Двух человек уже не хватает.
Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову.
— Как не хватает?
— А черт его знает как... Сидоренко из первой роты и Кваст из второй. Вечером еще были...
— Куда же они делись?
Саврасов пожимает плечами.
— Может, ноги потерли? А?
— Не думаю.
— Давай сюда командиров рот.
Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот.
Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.
Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения:
— Если потеряется еще хоть один человек — расстреляю из этого вот пистолета.— Он хлопает себя по кобуре.— Понятно?
Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается веко.
— Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались...— Он ругается и встает.— Подымайте людей.
Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он оправляет гимнастерку, убирает складки с живота,— все это резкими, короткими движениями,— ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру.
Бойцы выходят на дорогу. На ходу заматывают обмотки. В руках котелки с молоком. У ворот стояли женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят.
Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто—то из бойцов подставляет котелок. "Спасибо, бабуся". Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь.
Мы идем дальше.
5
С Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. Он и Лазаренко — связной штаба, оба верхами, вырастают перед нами точно из-под земли. Кони взмыленные, храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке царапина.
— Воды!
Впивается в фляжку. Запрокинув голову, долго пьет, двигая кадыком. Вода льется за воротник, оставляя белые дорожки на шее и подбородке. Мы ничего не спрашиваем.
— Перевяжи кобылу, Лазаренко...
Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла — по—моему, Комиссарова — хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи.
Игорь вытирает ладонью губы и садится на обочину.
— Дела дерьмовые,— коротко говорит он,— полк накрылся...
Мы молчим.
— Майор убит... комиссар тоже...
Игорь кусает нижнюю губу. Губы у него совершенно черные от пыли, сухие, потрескавшиеся.
— Второй батальон сейчас неизвестно где... От третьего — рожки да ножки. Артиллерии нет. Одна сорокапятимиллиметровка осталась, и та с подбитым колесом... Дайте закурить... Портсигар потерял.
Закуриваем все трое. Газеты нет, рвем листочки из блокнота.
— Максимов сейчас за командира полка. Тоже ранен. В левую руку... в мякоть. Велел вас разыскать и повернуть.
— Куда?
— А кто его знает теперь куда... Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни карты, ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять.
— А Афонька что, убит?
— Ранен... Может, и умер уже... В живот попало... Направил в медсанбат, а тот тоже вдребезги...
— И медсанбат?
— И медсанбат. И рота связи дивизионная, и тылы все... Дай еще воды...
Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Сейчас я только замечаю, как сильно он похудел за эти два дня. Щеки провалились. Цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли ко лбу.
— Короче говоря, в полку сейчас человек сто, не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми — с кладовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один, кажется, только ранен... У тебя горит?
Он прикуривает, придерживая пальцами мою цигарку. Глубоко затягивается. Выпускает дым толстой, сильной струей.
— В общем, Максимов сказал — разыскать вас и на соединение с ним идти.
Ширяев вытаскивает карту.
— На соединение с ним? В каком месте?
— Со штадивом связь потеряли.— Игорь скребет затылок мундштуком.— Максимов сам принял решение. По—видимому, штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от Ново—Беленькой. Но до Ново-Беленькой мы так и не дошли.
— А где сейчас немцы?
— Немцы? Яичницу жрут километрах в десяти-двенадцати отсюда. И шнапсом запивают...
— Много их?
— Хватит! Машин сорок насчитали. Все пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек — уже шестьсот пятьдесят.
— И куда движутся?
— Мне не докладывали. Оттуда две дороги. Одна сюда, другая — вроде грейдера — на юг...
— Максимов куда приказал?
— Максимов? — Игорь тычет пальцем в карту.— На Кантемировку. Вернее, до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на Старобельск.
Мы подымаем бойцов.
С большой дороги сворачиваем. Идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, сгибающиеся под тяжестью зерен хлеба. Бойцы срывают колосья, растирают ладонями и жуют спелые, золотистые зерна. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках — в гимнастерках жарко.
Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое—то село, расположились. Игорь был с третьим батальоном. Второй где-то впереди, километрах в пяти. Стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко — километрах в сорока, сдержали как будто.
И вдруг оттуда, из села, где второй батальон расположился,— танки. Штук десять — двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились немецкие автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили. Автоматчиков из села выгнали. Заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку — десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли, ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает, он ничего не чувствовал.
Пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая,— видно, недавно работали. Траншеи чистенькие, аккуратные, растрассированные по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая, не успела еще высохнуть.
Все это остается позади — громадное, ненужное, никем не использованное.
Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом. Потом опять подымаемся, шагаем по сухой, серой дороге. Воздух дрожит от жары. Одолевает пыль. Проведешь рукой по лбу — рука черная. Тело все чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь, портянки тоже. Даже курить не хочется. Неистово звенят кузнечики.
В каком—то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы. Машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо. И все туда, за лес.
Положение осложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем, ничего не поделаешь.
Ночью идет дождь, мелкий, противный.
6
На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи — каменные, без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма: кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлюпает, губы синие. Но костров разжигать нельзя, сараи просматриваются издалека.
Я не успеваю заснуть под натянутой Валегой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги.
— Занимай оборону, инженер... Фрицы.
Из—под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо.
— Какие фрицы?
— Посмотри — увидишь.
Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного — человек двадцать. Без пулеметов,— должно быть, разведка.
Ширяев кутается в плащ-палатку.
— И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям...
Подходит Игорь.
— Будем жесткую оборону занимать? А? Комбат?
Он тоже, по—видимому, спал,— одна щека красная и вся в полосках. Ширяев не поворачивает головы, смотрит в бинокль.
— Уже... Подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди расположены, пулеметы расставлены. Так и есть... Остановились.
Беру бинокль. Смотрю. Немцы о чем-то совещаются, стекла бинокля мокры от дождя, видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно, потом фигуры появляются. Уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю.
— Огня не открывать, пока не скажу,— вполголоса говорит Ширяев.— Два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо...
Бойцы лежат вдоль стен сарая у окон и дверей. Кто-то без гимнастерки, в голубой майке и накинутой плащ-палатке взгромоздился на стропила.
Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры. Автоматы у всех за плечами,— немцы ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках,— должно быть, командир. У него нет автомата и на левом боку пистолет; у немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе,— видно, устал. Рядом — маленький, с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, он курит коротенькую трубку и в такт походке кивает головой, точно клюет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают.
Игорь толкает меня в бок.
— Смотри... видишь?
В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать что — мешает дождь.
И вдруг над самым ухом:
— Огонь!
Передний, в очках, тяжело опускается на землю. Его спутник тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом.
— Прекратить!
Ширяев опускает автомат; щелкают затворы. Один немец пытается переползти. Его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут.
Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку.
— Дай закурить.
Игорь ищет в кармане табак.
— Сейчас опять полезут.
Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло.
— Ничего, перекурить успеем. С цигаркой все-таки веселее.— Ширяев скручивает толстенную, как палец, цигарку.— Интересуюсь, есть ли у них минометы? Если есть, тогда...
Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где—то за стеной, третья прямо в сарае.
Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игоря мне не видно. Мины летят сериями по пять-шесть штук. Потом перерыв в несколько секунд, и снова пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет, высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина.
Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас.
— Слушай мою команду!..
Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета.
Три короткие очереди. Потом одна подлиннее.
Немцы исчезают в овраге. Мы выводим бойцов из сараев, они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета,— этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых.
Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так и остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле одиноко зеленеют бугорки тел.
После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб.
— Сейчас окружать начнут... Я их уже знаю.
В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени.
— В том сарае почти всех перебило...— Он с трудом переводит дыхание.— Осколком повредило пулемет... По-моему...— Он растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата.
— Что — "по-моему"? — резко спрашивает Ширяев.
— Надо что-то... этого самого... решать...
— Решать! Решать! И без тебя знаю, что решать... Сколько человек вышло из строя?
— Я еще... не... не считал.
— Не считал...
Ширяев встает, подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное, однообразное поле без единого кустика.
— Ну что ж? Двигаться будем, а? Здесь не даст житья...
Поворачивается. Он несколько бледнее обычного.
— Который час? У меня часы стали.
Игорь смотрит на часы.
— Двадцать минут двенадцатого.
— Давайте тогда...— Ширяев жует губами.— Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо.
Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, Севастьянов ранен. Ширяев обводит глазами сарай.
— А Седых. Где Седых?
— Вон на стропилах сидит.
— Давай сюда!
Парень в майке, ловко повиснув на руках, легко спрыгивает на землю.
— Пулемет знаешь?
— Знаю,— тихо отвечает парень, почти не шевеля губами.
Он смотрит прямо на Ширяева не мигая.
Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеках. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним — точно спутал кто-то — крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая, вылинявшая майка трещит под напором молодых мускулов.
— А где гимнастерка? — Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски грозно.
— Вшей бил, товарищ комбат... А тут как раз эти... фрицы... Вон она, за пулеметом...— И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони.
— Ладно, а немецкий знаешь?
— Что? Пулемет?
— Конечно, пулемет. О пулеметах сейчас говорим.
— Немецкий хуже... но думаю, как-нибудь...— и запинается.
— Ничего, я знаю,— говорит Игорь.— Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться.
Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.
— А я думал, Саврасова. Впрочем, ладно...— Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых: — Ясно, орел? Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется,— ребята боевые, положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно?
— Понятно,— тихо отвечает Седых.
— Что понятно?
— Прикрывать останусь со старшим лейтенантом.
— Тогда по местам.— Ширяев застегивает воротник гимнастерки — становится совсем холодно.— Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где "максим", лучше. Готовь людей, Саврасов.
Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой противной дрожью.
— Долго не засиживайтесь,— говорит Ширяев Игорю.— Час — не больше. И за нами топайте. Строго на восток. На Кантемировку.
Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу.
— Пулемет бросайте. Затвор выкиньте. Ленты, если останутся, забирайте.
Через пять минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь, Ширяев уходит с четырнадцатью человеками. Из них четверо раненых, один тяжело. Его тащат на палатке.
Дождь перестал. Немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета. Валега попыхивает трубочкой. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь.
— Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? — спрашивает Седых и смотрит на меня ясными, детскими глазами.
— Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть.
— А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь...
Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтоб действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом.
— Його газами ще в ту вiйну отруiли. I взагалi, вiн не нiмець, вiн австрiяк, i фамiлiя в нього не Гiтлер, а складна якась — на букву "ш". Правильно, товарищ лейтенант?
— Правильно. Шикльгрубер — его фамилия. Он тиролец...
— Тиролец...— задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку.— А его немцы любят?
Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко — с видом человека, который давно все это знает. Валега курит.
— А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил.
— Правда.
— Как же это так?.. Самый главный — и ефрейтор. Он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается.
— Ты давно уже воюешь, Седых?
— Давно-о... С сорок первого... с сентября...
— А сколько же тебе лет?
Он задумывается и морщит лоб.
— Мне? Девятнадцать, что ли. С двадцать третьего года я.
Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на Юго-Западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку.
— Ну и что же, нравится тебе воевать?
Он смущенно улыбается, пожимает плечами.
— Пока ничего... Драпать вот только неинтересно.
Даже Валега и тот улыбается.
— А домой не хочешь? Не соскучился?
— Чего? Хочу... Только не сейчас.
— А когда ж?
— А чего ж так приезжать? Надо уже с кубарем, как вы.
Валега вдруг приподнимается и смотрит в окно.
— Что такое?
— Фрицы, по-моему... Во-он, за бугорком...
Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками, по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются.
— Сейчас из минометов начнет шпарить,— вполголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету.
Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет подымает только небольшую полоску пыли, и дальше этой полоски немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза.
Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно — Седых, Игорь, Валега, потом я, за мной Лазаренко.
Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что—то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы.
— Капут, кажется...— Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами. На лбу выступают крупные капли пота.
— Я... товарищ лейт...— Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается. Хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать.
Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке комсомольский билет и письмо — треугольник с кривыми буквами.
Мы кладем Лазаренко в щель, засыпаем руками, прикрыв плащ-палаткой. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях.
Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому — побольше. Немцы все обстреливают сарай. Некоторое время виднеются еще стропила, потом и они скрываются.
7
Ночью натыкаемся на наших. Кругом тьма кромешная, дождь, грязь. Какие—то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов.
— Н-но, холера!.. Н-но-н-но... Щоб тебе, паразiта!.. Но... Холера...
И эти "холера" и "паразит", однообразные и без всякого выражения, с небольшими паузами, чтоб набрать воздух в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои!
Какой—то мостик. Большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалкие кобыленки — кожа да кости, бока окровавлены, шеи вытянуты — скользят подковами по мокрым доскам. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар — мокрые фигуры. Здоровенный детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам.
— Холера паразiтова... Н-но... Щоб тебе!
Кто—то копошится у колес, ругаясь и кряхтя.
— Да ты не за эту держи... А за ту... вот так...
— Вот тебе и вот так... Не видишь — прогнила.
— А ты за ось.
— За ось... Смотри, сколько ящиков навалено!.. За ось...
Кто—то в капюшоне задевает меня плечом.
— Сбросить ее к чертовой матери!
— Я те сброшу,— поворачивается здоровенный детина.
— Вот и сброшу... Из—за тебя, что ли, машины стоять будут?
— Ну и постоят.
— Серега, заводи машину.— Человек в капюшоне машет рукой.
Здоровенный детина хватает его за плечо. Из—под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый, однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шоферы, еще несколько человек. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые, грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырко. Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня Копырко не узнает.
— Чего вам еще надо?
— Не узнаешь? Керженцев — инженер.
— Елки—палки! Откуда?.. Один?
И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытаскивают застрявшее колесо. Валега и Седых принимают деятельное участие.
— Садись на машину,— говорит Копырко, подходя,— подвезу.
— А ты куда путь держишь?
— Как куда?
— Куда подвезешь? Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть.
— На фрицев посмотреть, что ли? — Копырко устало улыбается.— Я еле-еле оттуда машину выгнал.
— А сейчас куда?
— Куда все. На юг. Миллерово, что ли... Ну, давай на машину!
— Я не один. Нас четверо.
Он колеблется, машет рукой.
— Ладно. Садитесь. Все равно горючего не хватит. А кто с тобой?
— Свидерский и двое бойцов — связные.
— Залезайте в кузов. Вон в тот "форд". Впрочем, мы с тобой в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом, выдержит ли...
Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает.
— Ширяева не встречал? — спрашиваю я.
— Нет. А где он?
— Со мной был, а сейчас не знаю где.
— Слыхал, что майора и комиссара убило?
— Слыхал. А Максимова?
— Не знаю, я с тылами был.
Копырко круто тормозит. Впереди затор.
— Вот так все время... Три шага проедем — час стоим... И дождь еще этот.
Спрашиваю, кто еще из полка есть.
— Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда—то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса...
— А немцы?
— А черт их знает, где они сейчас... Два часа назад в Кантемировке были... Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышишь, какой голос.— Он проводит рукой по глазам.— Две ночи не спали... Шофер и оружейный мастер куда—то провалились во время бомбежки... Два бачка бензина сперли. Одним словом, сам понимаешь...
Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор, я раскисаю и начинаю клевать носом, не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь. Опять засыпаю. Снится какая-то нелепость.
К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села.
Забираемся в какую-то хату и валимся на пол — на храпящие тела, семечную шелуху.
За день немножко подсыхает. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце, торопливо и неохотно. Дорога запружена — "форды", "газики", "зисы", крытые громадные "студебеккеры". Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие—то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Двое обозников на коровах. Прикрутили обмотки к рогам и едут.
И все это с криком, гиком, щелканьем бичей движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет...
Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас четверо. Копырко куда-то исчез со своей машиной,— раздобыл, вероятно, где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним... Хорошо, что хоть ночью подвез.
Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами.
— Ну...— говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону.
— Что — "ну"?
— Дальше что?
— Идти, по—видимому.
— Куда?
Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю:
— Своих искать.
— Кого своих — Ширяева, Максимова?
— Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию...
Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни — нос лупится, кокетливые когда-то — в линеечку — усики обвисли, как у татарина. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне как-то показывал? Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом, брючки-чарли... Дипломант художественного института. Сидит на краю стола в небрежной позе, с палитрой в руках и с папиросой в зубах. А сзади большое полотно с какими-то динамичными, устремленными куда-то фигурами...
А на другой карточке славненькая, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись не окрепшим еще почерком.
Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, "ТТ" на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли.
У колодца огромная толпа, какие—то крики. Люди безумеют от жажды. В воздух взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, растет, перекатывается к дороге.
...А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая, линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке.
Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, на формировке еще, я снял его солдат с газоубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали начхимом в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали.
Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась дружба.
Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушчонками. У машин необычайно добротный вид и на дверцах толстые, аккуратные цифры: Д—3—54—27, Д—3—54—26. Это не наши. У нас — Д—1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядывают загорелые, обросшие лица.
— Какой армии, ребята?
— А вам какую нужно?
— Тридцать восьмую.
— Не туда попали. В справочном спросите,— и смеются.
А машины идут — одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые. Конца и края им нет.
— Ну что, пошли?
Игорь встает и каблуком вдавливает в землю окурок.
— Пошли.
Мы вливаемся в общий поток.
8
— Эй вы, орлы!
Кто—то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский — помощник по тылу. Сидит на повозке и машет рукой.
— Давайте, давайте сюда!
Подходим. Так и есть — Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится.
— Залазьте в мой экипаж! Подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь.— Он протягивает нам руку, чтобы помочь влезть.— Водки хотите? Могу угостить.
Мы отказываемся, не хочется что-то.
— Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные.— Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу.— А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевой едет, пять подвод.
— А вы куда путь держите? — спрашиваю я.
— Наивняк. Кто такие вопросы теперь задает? Едем, и все. А тебе куда надо?
— Я серьезно спрашиваю.
— А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся.
— До Сталинграда?
— А тебя что, не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату?
И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, не ущипнешь...
— Наших не встречал? — спрашивает Игорь.
— Нет. Бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все—таки...
— А где твои кубики? — перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник.
— Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? — Калужский прищуривает глаз.— Наденешь, а через три дня уже нет. Эрзац...
— И пояс у тебя как будто со звездой был.
— Был. Хороший, с портупеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклянчил. Вы знаете его — хромой, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно канючил. Может, все-таки по сто грамм налить?
Мы отказываемся.
— Жаль. Хорошая, "московская".— И он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба.— Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне наш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел.
— А он где, не знаешь?
— Не знаю. Вырвался, вероятно. Не дурак, куда не надо — не лезет.— Калужский опять подмигивает.
И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, с застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездовыми, потерявшими кнут или прозевавшими колодец. Все это мимоходом, хотя и не без увлечения и определенного даже мастерства.
А вообще на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает,— он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев, то сейчас они подготовились "дай бог как"... У них авиация, а авиация сейчас это все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное — через Дон прорваться. Вешенская, говорят, уже занята,— вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цимлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим,— но это под большим секретом,— он выменял вчера в селе три гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам — мне и Игорю. Чем черт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить — мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...
Но ему так и не удается рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыряющий ножом подошву своего сапога Игорь подымает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким—то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок.
— Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?
— Вареников со сметаной, что ли? — смеется Калужский.
— Нет, не вареников... А в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже... Понял теперь?
Калужский несколько секунд не знает, как реагировать — рассердиться или в шутку все превратить, но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену.
— Нервы все, нервы... Бомбежки боком вылезают...
— Иди ты знаешь куда со своими бомбежками и нервами! — Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман.— Командир тоже называется... Я вот места себе найти не могу от всего этого. А ты — "мы еще можем пригодиться родине". Да на кой ляд такое дерьмо, как ты, нужно родине! Ездового хоть постыдился бы — такие вещи говорить!
Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофером. На его счастье, здоровенный додж преградил нам дорогу. Мы с Игорем перебираемся на другую подводу.
9
Общий поток несколько редеет. Часть сворачивает все-таки на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные — и их большинство — на Цимлянскую.
Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов. Сухие, выжженные овраги. Однообразный, как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой.
Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь, только чтоб лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает "рама", сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и полдня мы его чиним. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет везти. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой.
Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так, какая-то нудная тоска.
Какой-то майор-связист — мы ему помогаем "виллис" из канавы вытащить — говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровом, и это слово — бои — на какой-то промежуток времени утешает нас: значит, дерутся армии.
— А вообще добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете...— И, хлопнув дверцей, исчезает в облаке пыли.
Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводы, будь они трижды прокляты!
Опять степь, пыль, раскаленное бесцветное небо.
Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток.
Туда... За Дон...
Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...
Что я на это отвечу? Что война — это война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить всю войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и вынуждены отступать, но отступление — еще не поражение,— отступили же мы в сорок первом году и погнали потом немцев от Москвы... Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток... И я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: "До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся..."
И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть,— вера.
* * *
Минуем Морозовскую — пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, бесконечными вереницами застрявших вагонов.
Потом Дон. Маленький желтенький, затерявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки. Вздувшиеся лошадиные туши с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины.
Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерскими топориками на петлицах, осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает, сбивают с ног...
В перерыве между двумя бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых царапнуло икру осколком. Под шумок кто-то стащил Валегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит между воронок и разбитых повозок. Подумать только — ведь там такой роскошный бритвенный прибор...
За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые степи. Сегодня, как вчера; завтра, как сегодня. Солнце и пыль — больше ничего. Одуряющая, разжижающая мозги жара.
Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками. Командиры в желтых, скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки.
В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия не хватает, отбирают у встречных. Два лейтенанта-грузина, в свеженьких пехотинских фуражках, хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак.
— На фронт топаете?
— На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой.— И оба улыбаются.
— Ну, не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти.
— А где фрицы? — осторожно, чтоб, упаси бог, не подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты.
— А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете.
— А газеты что... Бои в излучине Дона. Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград оставили.
— А Ростов?
— Ростов нет. Не писали еще.
— Не писали?
— Нет, не писали.
Лейтенанты мнутся. Один из них спрашивает, небрежно, как бы мимоходом:
— Ну, а как там, на фронте... здорово драпают?
— Кто драпает? — Игорь делает удивленное лицо.
— Ну, наши...
— Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои.
Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, оборванных и запыленных, на повозки с вихляющимися колесами.
— А вы?
— Что мы?
— Не драпали?
— Зачем? На формировку едем.
Лейтенанты смеются, как будто услыхав удачную шутку, и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак.
— Возьмите нас с собой, а, хлопцы? — говорит вдруг Игорь и хлопает себя по кобуре.— Пистолеты у нас есть, что еще надо...
Лейтенанты переглядываются.
— Ей—богу, ребята... До точки уже дошли.
— Да что мы...— мнутся лейтенанты,— мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет.
А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где повозка с зелеными колесами.
Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем, на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем.
— По всем правилам подходите,— кричат вдогонку лейтенанты,— он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте.
Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом, на столе, пенсне.
— Ну, чего вам? — спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо.
Объясняем, вытянув руки по швам,— так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пенсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах отколупленным кусочком спичечной коробки.
— Что же я вам скажу, друзья? — говорит он низким, каким—то рокочущим басом.— Ничего хорошего не скажу. Вы, думаете, у меня первые? Черта с два. Человек десять, да какое там десять, человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так по два на взвод. Да в резерве человек десять. Понятно теперь?
Мы молчим.
— Так что, как видите... И рад бы, как говорится, да...— он опять берется за ложку.
— Ну, а все—таки, товарищ майор...
— Что все-таки? — Он повышает голос.— Что это значит — все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом шагом марш! — И уже более мягким голосом добавляет: — В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии?
— Тридцать восьмой, товарищ майор.
— Тридцать восьмой... Тридцать восьмой...— Он чешет мизинцем переносицу.— Кто—то мне говорил, не помню уже кто, но кто-то, ей—богу, говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельниково ткнуться. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Посмотрите, посмотрите...
Мы козыряем и уходим.
В Котельникове нам говорят, что штаб в Абганерове. В Абганерове его не оказывается. Направляют в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, что слыхал, будто наша армия в Котлубани. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из Тридцать восьмой и поехал в Дубовку. На станции Лог встречаем трех лейтенантов из Дубовки. Тридцать восьмой там нет. Все едут в Клетско—Почтовскую.
Машины идут на Калач. Там, говорят, бои сильные. С питанием дрянь. В какой—то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. Валега и Седых раздобыли где-то мешок овса...
А в общем... Едем в Сталинград...
10
Сталинград встречает вылезающим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями.
Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи. Вереницы тупорылых "студебеккеров". На них длинные, похожие на гробы ящики, "катюшины" снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах — задранные к небу, настороженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов. Громадные бутылки с золотистым топленым молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно не видел этого. Женщины по-прежнему красят губы.
Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей—то подбородок. В кино идет "Антон Иванович сердится". Сеансы в двенадцать, два, четыре и шесть. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвайном столбе кто-то проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове, девятилетнем мальчике, в ночь под рождество пишущем своему дедушке на деревню.
А над всем этим — голубое небо. И пыль... И тоненькие акацийки, и деревянные домики с резными петушками, и "Не входить — злые собаки". А рядом большие каменные дома с поддерживающими что—то на фасадах женскими фигурами. Контора "Нижневолгокоопромсбыта", "Заливка калош", "Починка примусов", "Прокурор Ленинского района".
Улица сворачивает вправо, вниз к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название — Царица. Виден кусочек Волги — пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо и подымаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего Игорева командира роты в запасном полку. "Золото она, а не женщина,— сами увидите".
Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и заклеенными крест-накрест бумажными полосками окнами. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас.
Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется — веселый, без пилотки и в одной майке.
— Давай сюда, Седых, заводи! — И мне на ухо: — Все в порядке. Как раз к завтраку попали.
Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что—то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой, нас зазывает.
Потом мы сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, и едим сверхъестественно вкусный суп из фасоли. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьминичны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марьи Кузьминичны седой узелок, очки на переносице обмотаны ваткой.
После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич, ее муж, будет к обеду, он работает на автоскладе, что гуся прислал ей брат,— он все еще в запасном полку. Что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше она сегодня постирает, ей это ничего не стоит.
Мы выпиваем по три стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье.
К обеду приходит Николай Николаевич — маленький, лысый, в чесучовом допотопном пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами.
Он всем очень интересуется. Расспрашивает нас о положении на фронте, о том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта,— "ведь это просто безобразие, сами посудите",— и как, по-вашему, дойдут ли немцы до Сталинграда, и если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять. Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил, и какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, или, как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет "трепаться", как теперь говорят.
После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линеечкой меряет расстояние от Калача, Котельниково до Сталинграда, и вздыхает, и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты,— получает не только сталинградскую, но и московскую "Правду". Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марье Кузьминичне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям,— эти газеты неприкосновенны.
Потом мы спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцами от мух.
Вечером мы собираемся в оперетту на "Подвязку Борджиа". Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны.
На противоположном крылечке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем: нам Марья Кузьминична сказала. У девушки невероятно черные, блестящие, как две бусинки, глазки, черные брови и совершенно золотые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платьице—сарафан. Руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения.
— Совсем неплохие ножки, а, Юрка? Да и вообще...
Неистово плюет на щетку.
Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог.
— Это хороший крем — эстонский. Пожалуй, лучше, чем слюна,— и протягивает баночку.
Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые, заблестят сапоги. Теперь не стыдно и в театре показаться. А мы что, в театр собираемся? Да, в театр, на "Подвязку Борджиа". Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту, а оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу? Да, особенно "Евгения Онегина", "Травиату" и "Пиковую даму". Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в музтехникуме,— это еще до института было,— и у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза.
— Зайдите к нам, мама чай приготовит.
— С удовольствием, мы так отвыкли от всего этого.
Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрещат под нами — такие они хрупкие и изящные и такие грубые и неловкие мы. На стене беклиновский "Остров мертвых". Рояль с бюстиком Бетховена. Люся играет "Кампанеллу" Листа.
Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий и удобный, с покатой спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги.
У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам; вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю "Кампанеллу", смотрю на Беклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников в буфете, но почему-то все это мне кажется чужим, далеким, точно затянутым туманом.
Сколько раз на фронте я мечтал о таких минутах: вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, и сидишь ты на диване и слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли из Оскола,— нет, позже, после сараев,— у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье.
Несколько дней назад, где-то около Карповки кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. Валега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть — новенькая, идущая на фронт. Молодые, веселые бойцы, с красными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то просто боец на сытой буланой лошадке, весело крикнул звонким, как у запевалы, голосом:
— Здорово окопались, господа военные. Ни пуля, ни мина не достанет...
И все заржали вокруг него, а он, батарейный заводила, еще подкинул:
— Самоварчик бы еще да вареньица...
И все опять засмеялись.
Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, но, что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того: "Посмотрим, что вы недельки через две запоете..."
Да, самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке — цель, задача, а в щели только бомбы считаешь, попадет или не попадет.
Люся встает из-за рояля.
— Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел.
Стол покрыт белой, хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье из вишен без косточек — мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем, куда девать свои руки, огрубевшие, неотмывающиеся, в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся накапать вареньем на скатерть.
Люсина мать, томная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке, подкладывает нам варенье и все вздыхает, и все вздыхает.
— Кушайте, кушайте. На фронте-то вас не балуют, плохо на фронте, я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал,— и опять вздыхает.— Несчастное поколение, несчастное поколение...
От третьего стакана мы отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом откланиваемся.
— Заходите, заходите, голубчики. Всегда вам рады.
Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом со мной спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь ворочается с боку на бок.
— Ты не спишь, Юрка?
— Нет.
— О чем ты думаешь?
— Да так... Ни о чем...
Игорь ищет в темноте табак.
— У тебя есть курево?
— В сапоге посмотри, в мешочке.
Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает цигарку.
— Надоело все это, Юрка.
— Что все?
— Да болтание это. Как цветок в проруби...
— Что ж, завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдем. С утра прямо, до завтрака.
— Тоже счастье — отдел кадров. Запрут куда-нибудь в резерв, шагистикой и приветствиями заниматься. Или в запасный полк — еще лучше.
— Не пойду в запасный полк.
— Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь? В Алма-Ату или Фрунзе? Всех лейтенантов и старших лейтенантов, говорят, в школу сейчас посылают.
— Ну и пускай посылают. Все равно не поеду.
Несколько минут мы молчим. Игорь мигает цигаркой.
— А с ребятами что делать будем?
— С какими? С Валегой и Седых?
— Их ведь надо на пересыльный отправлять.
— Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей. А их я не отдам. Я с Валегой девять месяцев воюю. И до конца войны будем вместе, пока не убьет кого-нибудь.
Игорь смеется.
— Смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссорились. Как картошку готовить. Седых хотел просто так, в мундирах варить, а Валега ни в какую. Лейтенант, мол,— это ты — не любят шелуху чистить, любят чистую. Минут десять препирались.
— Ну, что ж, настоящий, значит, ординарец,— говорю я и переворачиваюсь на другой бок.— Спи, завтра вставать рано.
Игорь протяжно зевает, сплевывает и тушит цигарку о землю.
Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит.
Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку... А как ты не хотел идти в ординарцы ко мне. Три дня пришлось уламывать. Стоял потупясь и мычал что-то невнятное — не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные. На теплое местечко. Воевать я, что ли, не умею, хуже других?
Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык... Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени.
Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях... Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры?
Вадим Кастрицкий — умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно, многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя? Меня раньше это и не интересовало. А сейчас интересует. А Валега вытащит. Это я знаю... Или Сергей Веледницкий. Пошел бы я с ним в разведку? Не знаю. А с Валегой — хоть на край света.
На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, и спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае — он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны — кулаками, зубами... вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела — покажет себя. А делить, умножать и читать не по складам всегда научится, было б время и желание...
Валега что—то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку.
Спи, спи, лопоухий... Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега — туда! Валега — сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь.
11
Утром в отделе кадров сталкиваемся нос к носу с Калужским, свежим, выбритым, как будто даже поправившимся.
— Деточки... Живы, здоровы? Куда топаете? — Он сует свою теплую, влажную руку.
— Туда, откуда ты.
— Одну минуточку. Не торопитесь. У вас табак есть?
— Есть.
— Необходимо перекурить. И мозгой заодно шевельнуть. Вот скамеечка симпатичная.
Он тащит нас к трехногой скамейке в пыльном скверике.
— Незачем прыгать очертя голову. Понимаете? Здесь дело простое. Или резерв, или передовая. Чик-чик — и ваших нет.
— Ну?
— Вас это устраивает? — подбритые брови его удивленно приподымаются.— На передовой знаете что творится сейчас? И не спрашивайте... С бору по сосенке. Я с раненым лейтенантом говорил сегодня. Вчера только из Калача. Комсостав почти весь вышел. Тыкают на первое попавшееся место. Вот тебе люди, вот рубеж — держи. Понимаете? "Мессера" по головам ходят. Одним словом...
Толстым коротким пальцем он чертит в воздухе крест.
— А резерв? Пшенная каша, хлеб как глина. Ну, может быть, селедка. И занятия с утра до вечера, уставы, БУПы*, ручной пулемет... Семечек хотите?
Не дожидаясь ответа, сыплет нам в ладони мелкие, пережаренные семечки.
— Теперь дальше...— Он слегка наклоняется и говорит загадочным полушепотом: — Встретился я здесь с одним капитаном, я вас с ним познакомлю. Хороший парень. Работал помощником по разведке в штабе одной дивизии. Разговорились. Оказались общие знакомые. Короче, дней через пять—шесть, максимум десять, будет здесь подполковник Шуранский. Вы его знаете? Золото, а не человек. Я с ним на "ты". Вместе выпивали. Так он, этот самый Шуранский, устроит. Сейчас он в Москве, в командировке. Через неделю будет здесь. В общем, мой совет, поворачивайте-ка вы пока оглобли. У вас есть где жить? А я вас буду держать в курсе событий.
Он вдруг вскакивает и сует семечки в карман.
— Одну минуточку. Вы подождите. Вон с тем майором пару слов только...
И, поправив фуражку, он скрывается за углом. Мы заходим в дом с грязными окнами. Бесцветный лейтенант, в начищенных сапогах, сообщает, что инженерный отдел находится на Туркестанской улице и там берутся на учет все саперы. А прочие специальности — стрелки, минометчики, артиллеристы — в пятой комнате, с одиннадцати до пяти.
————————————————————————————————————————
* БУП — боевой устав пехоты.
Едем на Туркестанскую. Игорь решает выдать себя за сапера. — К черту эти противогазы. Надоели. А ты меня за три дня всем премудростям научишь.
На Туркестанской опять лейтенант, только уже черный и в брезентовых сапогах. Потом майор. Потом пять анкет — и "приходите завтра к десяти".
На другой день в десять заполняем еще какие-то карточки и с бумажкой — "Майору Забавникову, зачислить в резерв" — шагаем на Узбекскую, 16.
Там человек двадцать командиров-саперов. Пьют чай, сидя на подоконниках, курят, ругают резерв. Майора нет. Потом он приходит — маленький, желчный, зеленый, со слезящимися глазами. Опять — кто, что да откуда. Распорядок: с девяти до часу занятия, потом обед, с трех до восьми опять занятия. Записываемся в список для питания в какой—то гидророте. Уходим домой.
* * *
Вечером мы бродим с Люсей по набережной. Небо красное, зловещее. Над горизонтом облака, точно густой, черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. И плоты, плоты без конца. Обмотанные зеленью, точно сегодня троица, буксиры. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе.
Мы идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облокачиваемся на него и смотрим вдаль. И Люся что-то говорит,— кажется, о Блоке и Есенине, и спрашивает меня что—то, и я что-то отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о Блоке, ни о Есенине.
Все это когда—то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко- далеко... Архитектура, живопись, литература... Я за время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.
Все это потом, потом...
А завтра опять этот резерв, по двадцать раз разбирай и собирай пулемет Дегтярева. И послезавтра, и послепослезавтра. И опять этот желчный, со слезящимися глазами майор Забавников будет говорить нам, что надо ждать, что, когда прикажут, тогда и отправят на фронт, что есть на то люди, которые об этом думают, и пойдет, пойдет, пойдет...
Мы проходим мимо памятника Хользунову, Герою Советского Союза. К стыду своему, я не знаю, что он сделал. Бронзовый, тяжелый, в кожанке, он стоит уверенно, прочно и ни на кого не смотрит. Мы читаем надпись, рассматриваем барельефы на пьедестале.
Выходим на центральную площадь. Серый, с черными аккуратными крестами и средневековым львом на геральдическом щите стоит подбитый "хейнкель". Он похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями. Мальчишки ползают по перебитым крыльям, залезают в кабину, ковыряются в приборах. Взрослые угрюмо и внимательно рассматривают из-за натянутой веревки разбитые моторы и торчащие пулеметы.
— Весь бронированный, сволочь...
— Да, металла не жалеют.
— Вот и суйся к ним с фанерой.
— А сколько у него пулеметов?
— Два. И две пушки.
— И бомбы?
— И бомб две тонны.
— Две тонны?
Люся тянет меня за рукав.
— Идемте. Мне надоело на него смотреть. Поедем на Мамаев курган.
— Куда?
— На Мамаев курган. Оттуда весь Сталинград как на ладони. И Волга. И за Волгу далеко—далеко видно. Там хорошо. Честное слово.
Мы едем на Мамаев курган.
Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Люся говорит, что здесь предполагалось разбить парк культуры и отдыха. Возможно, когда—нибудь здесь и будет красиво, но пока что мало привлекательно. Какие—то водонапорные башни, сухая трава, редкий, колючий кустарник.
Но вид отсюда действительно замечательный.
Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками.
"Красный Октябрь", "Баррикады" и совсем далеко на горизонте корпуса Тракторного. Там свои поселки — белые, симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие этернитовыми крышами коттеджи.
И за всем этим Волга — спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые совсем уже дали, и каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено—красным дождем.
Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд внизу. Он страшно длинный, на платформах у него что-то покрытое брезентом,— должно быть, танки. Короткотрубый, точно надувшийся паровоз тяжело и недовольно пыхтит. Он не жалеет дыма, тянет медленно, с упорством привыкшего к тяжести битюга.
— О чем вы думаете? — спрашивает Люся.
— О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.
— Юра... Как вы можете?
— А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.
— Неужели вам не надоело все это?
— Что "это"?
— Война, пулеметы...
— Смертельно надоело.
— Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же...
— Просто привычка. Я теперь и на луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что, когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.
— А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.
— Вы недавно работаете в госпитале — вот и все.
— Второй уж месяц.
— А я второй уж год. А военный год — это добрых три мирных. А то и пять.
Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза. У нее маленькая родинка у левого глаза и ресницы такие, как у Седых,— длинные и загибающиеся кверху.
— А какой вы до войны были, Юра?
Ну что ей ответить? Такой же, как теперь, только немножко иной. Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и в третьем ряду партера сидеть, и сирень, и выпить с ребятами.
Некоторое время мы сидим и молча смотрим на противоположный берег.
— Красиво, правда? — говорит Люся.
— Красиво,— говорю я.
— Вы любите так сидеть и смотреть?
— Люблю.
— Вы в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?
— Сидели и смотрели.
— У вас там жена, в Киеве?
— Нет. Я не женат.
— А с кем же вы сидели?
— С Люсей сидел.
— С Люсей? Смотрите, как смешно,— тоже Люся.
— Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.
— А где она сейчас?
— Не знаю. Она осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.
— А у вас есть ее карточка?
— Есть.
— Можно посмотреть?
Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохонькая любительская карточка на дневной бумаге, почти совсем выцветшая. Люся берет ее в руки и наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым, свежим мылом.
— А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?
— Нет, не замечал.
— А вы любите ее? Или только так?
— Мне кажется, что да. Во всяком случае — скучаю.
— Очень?
— Пожалуй, очень.
— Почему пожалуй?
— Ну, просто — очень.
Люся опускает глаза.
И вдруг вся краснеет. Даже уши, маленькие, с дырочками от серег уши ее, становятся красными.
Внизу проползает еще один поезд, такой же длинный и пыхтящий. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки — бледные и робкие.
Я смотрю на звезды, на маленькое розовое ухо с дырочкой, на тонкую Люсину руку — на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славненькая, Люся, и мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны и так же, может быть, буду с ними сидеть, а потом и они уплывут куда—то, и я забуду их лица и имена, и сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого.
И я даю ей на всякий случай адрес моего московского друга, по которому она, когда кончится война, если захочет, может написать. Она записывает адрес в маленькую записную книжечку и говорит, что обязательно, обязательно напишет.
Через час мы уходим. Люся молчит и крепко, двумя руками, держится за меня, и я чувствую, как бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие, и вся она какая—то уютная и трогательная.
12
Нам дают работу. Мне, Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник — майор Гольдштаб, страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы — угрюмый, дергающий носом капитан Самойленко — тоже из резерва.
Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводе команды подрывников. И это все.
На мою долю выпадает мясокомбинат, холодильник, четвертая мельница и хлебозавод. Игорю — пивзавод, другая мельница и завод "Метиз".
Поселяемся в новой квартире, большой, пустой и неуютной, с балконом, выходящим на привокзальную площадь. Обстановки почти никакой. Стол, четыре стула, три продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипятильник.
Мы с Игорем захватываем две койки, кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со странной фамилией Пенгаунис, должно быть латыш. Четвертый — Шапиро, располагается на стульях. Валега и Седых — в соседней комнате, на полу. Угрюмый капитан где-то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит
. На заводах мнутся директора, разводят руками, говорят, что не из кого команды составлять — одни женщины остались. Рабочие косятся: чего это военные зачастили. Разыгрываю пожарного специалиста — щупаю огнетушители.
На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках. На мясокомбинате — колбасой и охотничьими сосисками.
Дни стоят ясные, жаркие, ночи — душные.
Марья Кузьминична жалуется, что на базаре все дорожает и молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич вздыхает около своей карты. Сводки малоутешительны. Майкоп и Краснодар оставлены.
В городе много раненых. С каждым днем все больше и больше. Обросшие, бледные, сверкая бинтами на пыльном, окровавленном обмундировании, движутся они вереницами к Волге. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули, проверяют документы. Дороги на Калач и Котельниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие, глубокие ямы,— говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают "юнкерсы", роняют две-три бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много.
В Москву прилетает Черчилль. Коммюнике весьма неопределенное.
Где бои, тоже точно не знаем. В сводках расплывчатое — "северо—восточнее Котельникова", "излучина Дона"... Говорят, Абганерово уже у немцев. Это шестьдесят пять километров отсюда. На базаре, основном центре распространения слухов, Марья Кузьминична слыхала, что наши оставили Калач и отошли к Карповке. Раненые в основном из Калача. Разводят руками — "танки... авиация... что поделаешь...".
Приказа об эвакуации еще нет, но Люсины соседи, зубной врач с женой и двумя детьми, вчера выехали в Ленинск — "погостить к сестре".
А в оперетте — "Сильва", "Марица", "Роз—Мари". В буфетах, кроме волжской воды — пять копеек стакан,— пустота. На сцене цилиндры, манишки, обольстительные улыбки, сомнительные каламбуры.
В зоопарке по-прежнему грустит слон, неистовствуют мартышки, толстый ленивый удав дремлет в углу своего террария, на старой соломе.
В городской библиотеке, с балконом прямо на Волгу, симпатичная старушка в прическе восьмидесятых годов выдает Бальзака и просит не загибать страницы. Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воюют в "фашистов" и в "наших". Девочки играют в классы, прыгая на одной ножке.
У Дома Красной Армии регулярно в витринах, затянутых металлической сеткой, вывешиваются "Известия" и "Сталинградская правда".
Так ползет август — душный, безоблачный, пыльный.
Как—то встречаю Калужского, в новенькой гимнастерке и в фуражке с малиновым околышем. Он устроился в одном из эвакогоспиталей начпродом. Сейчас госпиталь эвакуируется в Астрахань, и у него по горло работы — раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей—богу, на фронте лучше... Кстати, если мне нужен сахар, он может мне уступить с десяток кило — все равно всего вывезти не удастся, придется сдавать фронту.
Я знаю, что Валега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор на этом кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает на груженном доверху бараньими тушами "газике" куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту, авось есть что-нибудь "до востребования".
13
В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи, и я никак не могу больше заснуть. Игорь и те двое еще спят.
Встаю и иду на кухню. Седых готовит на примусе оладьи. Валега ковыряется в репродукторе, он давно мечтает о радио.
Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары неба.
На заводы сегодня не пойду,— схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается, до сих пор не составлены еще группы подрывников.
Сдергиваю с Игоря шинель.
— Вставай! Идем на Волгу купаться.
Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все—таки встает. Моргает сонными глазами.
Седых вносит шипящие на сковородке оладьи.
— Сегодня утром сбили одного.— Он ставит сковородку на кирпич.— Сам видел. Сначала задымился, длинный такой черный хвост пустил, потом стал крениться — больше, больше и свалился куда-то за город. Должно быть, в мотор попали.
— В городе много зениток,— говорит Шапиро и слезает со своих стульев,— батарей двадцать пять будет. Он очень любит цифры и всякие подсчеты.
— Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере семьсот пятьдесят снарядов.
— А сколько у немцев самолетов? — спрашивает Игорь. Он всегда над ним посмеивается, но Шапиро не обращает внимания.
— К началу войны было около десяти тысяч. Сейчас, вероятно, больше.
— Почему?
— Простая арифметика. Если считать, что у них сто авиазаводов и каждый выпускает, по одному самолету в день — я беру невероятный минимум,— то выходит три тысячи в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит...
— Ты купаться пойдешь? — перебивает Игорь.
— Нет. У меня чирей выскочил. Шестой чирей за этот месяц. И на самом неудобном месте.
Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с плотов в жирные, перламутровые от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая.
Потом лежим на бревнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. Она ослепительно блестит. Она не похожа на Днепр. Совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная дуга пляжа, заваленного голыми, черными от солнца телами, какие—то грибки, киоски, кокетливо-ажурные водные станции. И бесконечное количество лодок-байдарок, шлюпок, полутригеров, стройных гоночных скифов, дубков и плоскодонок, белоснежных стремительных яхт. Все это снует, шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце.
Здесь не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, закопченные, озабоченные катера, простуженно гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не бывал. А сейчас это широкое, сияющее, затянутое плотами, обсаженное по берегам кранами и длинными, скучными сараями обилие воды напоминает цех какого-то особенного, непохожего на другие, завода.
Но все же это Волга. Можно часами лежать вот так, на животе, и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения допотопный пароходик, шлепая колесами. И я лежу и смотрю, а Игорь что-то говорит о том, что ему надоело это безделье, надоел Шапиро со своими чирьями, Пенгаунис, каждый день стирающий и развешивающий на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная волокита.
Я слушаю его одним ухом, смотрю на пыхтящий катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что, может быть, через неделю или две здесь будет фронт и на месте, где мы сейчас лежим, будут немцы, а там, в кудрявой зелени, на том берегу,— мы, и бомбы будут вздымать белые фонтаны воды, и вздувшиеся тела поплывут по этой сверкающей поверхности куда-то вниз, к Астрахани, к Каспийскому морю.
Игорь с размаху хлопает меня между лопаток.
— Полезли в воду... Вон пароход плывет.
С разгону, оттолкнувшись ногами от толстого, скользкого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. Сильными, короткими взмахами — почти вся спина наружу — плывет он наперерез пароходу. Голова в воде. Только иногда из-под руки появляется, чтоб набрать воздуху. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала. Не так сильно и резко, но тоже хорошо.
Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит, и ноги устают. Они должны все время работать, быстро и ровно, как ножницы.
Пароход проходит — приземистый, с длинной трубой и целым хвостом барж позади. Игорь возвращается, запыхавшись.
— Сердце что-то сдает. Старею. И вообще не река, а нефтехранилище какое-то.— Он весь блестит и переливается от нефти.— Идем-ка лучше в библиотеку.
Я не возражаю. От лежания на бревнах болит спина. В библиотеке Игорь наслаждается "Аполлоном" за 1911 год. Я — какими-то новеллами перуанского происхождения в "Интернациональной литературе". Плетеные кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то с усами и булавкой в галстуке. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Доре к Мюнхгаузену. У меня тоже когда—то была эта книга в красном с золотом переплете и такими же рисун— ками. Я мог ее раз по двадцать на день рассматривать. Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. И другая картинка — ворота разре— зали коня пополам, а он стоит, спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад.
Мы сидим до тех пор, пока библиотекарша не намекает нам, что в шесть часов библиотека закрывается. У них теперь только одна смена, и они от двенадцати до шести работают.
— Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А "Аполлон" еще есть за тысяча девятьсот двенадцатый и тысяча девятьсот семнадцатый годы.
Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит — все остыло.
У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простуженно хрипит:
— Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена...
Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, и дадут отбой.
Валега встречает нас насупленным взглядом исподлобья.
— Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем...— Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель. Где—то за вокзалом начинают хлопать зенитки.
Борщ действительно замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки — красивые, с розовыми цветочками.
— Совсем как в ресторане,— смеется Игорь,— еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.
И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор...
Что за черт!
Из—за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток.
Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться.
Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. Десять... двенадцать... пятнадцать... восемнадцать штук... Выстраиваются в цепочку. Как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло колесами вверх. Входит в пике. Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из—под крыльев вываливаются черные точки. Одна... две... три... четыре... десять... двенадцать... Последняя белая и большая. Я закрываю глаза, вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как "певун" выходит из пике. Потом ничего нельзя уже разобрать.
Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила. Кто—то сжимает мне руку, точно тисками, выше локтя. Лицо Валеги — остановившееся, точно при вспышке молнии. Белое, с круглыми глазами и открытым ртом. Исчезает.
Сколько это длится? Час, два или пятнадцать минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего.
Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет.
Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт — животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то — скорей бы, скорей, что угодно, только скорей.
Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман. Пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом — везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил.
Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу.
У Игоря большой синяк на лбу. Пытается улыбнуться.
Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая—то или политотдел. Не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка, покосившаяся, точно на задние лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорот живот и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью.
— Кушать будете? — спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся.
Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю — буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу ядовито—фиолетовый.
— Ну ее...— машет рукой,— не лезет в глотку...— и выходит на балкон.
Пенгаунис и Шапиро приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в Дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там человек двадцать погибло. Как раз сеанс кончился.
Я спрашиваю, который час. Пенгаунис смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа.
Игорь возвращается с балкона:
— А где наш капитан живет?
Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к Гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет. Лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы.
На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, перекладывают, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.
— Господи боже... Пресвятая богородица...
Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле.
На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.
Люди бегут, бегут, бегут...
Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.
В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки Гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлюпает. Голос Гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света.
— Идите домой... ждите.
Мы идем домой. Люди все бегут, бегут, бегут... Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф.
Пытаемся заснуть. Ворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.
14
Капитан является на рассвете. Дергает носом. Через пять минут будет полуторка, поедем на Тракторный.
— На Тракторный? Зачем?
— Не знаю. Приказано.
— Кто приказал?
— Гольдштаб. Он тоже выезжает на Тракторный.
— А что там делать?
— Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину.
— И больше ничего?
— Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел.
— А так что слышно?
Капитан пожимает плечами — разве поймешь?..
Седых отзывает меня в сторону.
— Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить?
— Я те схожу!
— Водка, говорят, есть.
— Ты слышал, что я тебе сказал?
— Слышал.
— Иди складывай свои манатки.
Я сворачиваю рулоны синьки и всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается.
— Опять летят...
Тишина. Валега с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов. Летит много.
— Надо в подвал идти,— дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в кожанке, потным и красным.
— Вы Самойленко? — Голос хриплый, задыхающийся.
— Я...
— Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорей. Гудят уже.
Валега с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня.
— Давай на машину... Слыхал?
Когда мы влезаем в машину, сыплются первые бомбы. Где—то сзади, в железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо.
Я снимаю пилотку, чтоб ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки подымается высокий, расползающийся кверху, как гриб, столб густого, черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки.
Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город,— полуголые, в шубах, закопченные.
Гольдштаб сидит в подвале. Народу — не протиснуться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольдштаб бледен, небрит, прищурившись, смотрит на нас, не узнает.
— Вы к кому?
— К вам. Саперы.
— Ага... Саперы. Чудесно! Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда.
Он говорит отрывисто, торопливо, потирая маленькие, покрытые черными волосами, сухонькие ручки.
— Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага,— он что-то ищет в карманах, не находит, машет рукой.— Метров пятьдесят — не больше. Стреляют по Тракторному из минометов. Десант. По-видимому, небольшой. Наших регулярных частей еще нет. Сдерживают рабочие.— Смотрит на маленькие, изящные золотые часики-браслет.— Сейчас шесть пятнадцать. К восьми ноль—ноль завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть, армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, капсюли — все есть. Нужно помочь. Свяжитесь с лейтенантом Большовым,— вы его там найдете,— в синей шинели и синей пилотке. С ним все уточните. В восемь ноль-ноль я буду там.
Он задумывается, прикусив губу.
— Ну ладно.
Вынимает из бокового кармана крохотный сафьяновый блокнотик с подоткнутым карандашиком. Записывает.
— Керженцев — ТЭЦ*. Свидерский — литейный. Самойленко — сборочный цех и т. д.— Кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу.— Больше не задерживаю. Вещи и шинели можете оставить пока здесь.
Едем дальше.
Большова находим довольно быстро — по синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка навыкате, иронические и умные. В углу рта окурок. Руки в карманах.
— Помощники, да? — улыбается углом рта.
— Да. Помощники.
— Ну что ж, в добрый час. Часика б на два раньше — было б лучше. А сейчас...— он зевает и сплевывает окурок,— основное уже сделано. Омметра нет?
— Нет. А что?
— Капсюли не калиброваны. Вообще, если скажут сегодня,— навряд ли выйдет. Что, бомбит город?
— Бомбит. А почему не выйдет?
— Почему? — Большов лениво улыбается.— Взрывчатка дерьмовая. Тола кот наплакал. Остальное аммонит. Отсыревший, в грудках. Ну и капсюли не калиброваны. Цепь проверять нечем. Омметра нет...
— А детонирующего шнура? — спрашивает Игорь.
— Обещают завтра дать. И омметр завтра. Все завтра. А взрывать сегодня.
— Сегодня?
— Говорят. Если не отгонят, то сегодня. Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровненький прямоугольничек.
— Махорка есть?
Закуриваем. Мимо по широкой, обсаженной деревьями асфальтированной аллее проходят отряды рабочих. Несут пулеметы — танковые, снятые с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча.
————————————————————————————————————————
* ТЭЦ — теплоэлектроцентраль.
Я спрашиваю:
— Где немцы?
— А вон за цехами. Там овраг. Мечетка или Нечетка, черт его знает. Шпарят из минометов. Штук десять танков. Даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно.
— А где наши объекты?
— А у вас что?
— ТЭЦ,— отвечаю я.
— ТЭЦ? В двух шагах. За этим корпусом налево. Четыре трубы большие. Сержанта моего найдете. Ведерников. Спит, вероятно, где-нибудь там в конторе. Всю ночь работал. Советую и вам вздремнуть.
Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги по полу. Видно, бросился на диван и сразу заснул.
— Эй, друг!
Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться.
— Вас что, лейтенант прислал?
— Да. Большов.
— Принимать будете?
— Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано.
— Опять ознакомить? Тут один уже ознакомился. Капитан какой-то, Львович, кажется...
— А теперь я.
Сержант, потянувшись, встает.
— Ну что ж, пошли...— Ищет в кармане махорку.— Всю ночь мешки таскали, будь оно неладно. Спины не чувствуешь. Бумажные, сволочи, все рвутся.
— И много?
— Да с сотню будет, если не больше. Трехпудовые. От этого ТЭЦа один пшик останется.
— Сеть готова?
— Готова. Электрическая только. Аккумуляторов натаскали чертову гибель, а омметра нет. Электрик тут один мне помогал, говорит, у них что-то в этом роде есть, но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только всовывай и рубильник нажимай.
— А где подрывная станция?
Сержант машет в сторону окна.
— Метров триста отсюда щель. Там все хозяйство. И капитан там. И электрик, вероятно.
Мы обходим станцию. Она чистая и большая. Восемь генераторов, под каждым заряд — три-четыре мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной — метров триста от самой станции. Цепь длиннющая, километра два. Сделано аккуратно — концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой, по два капсюля на заряд. За ночь действительно сделано много.
Где-то, по ту сторону электростанции, слышно, как разрываются мины.
— По окраине бьет,— говорит сержант.— Из ротных все бьет. Чепуха. В щель пойдете?
— А где телефон?
— В щели. Все там. Вроде КП устроили.
15
В щели набито битком. Игорь, Седых, высокий курчавый брюнет в военной форме, с маленькими бачками, какие—то рабочие в спецовках, щуплый, чахоточного вида субъект в лоснящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается Львовичем, в кепке с пуговкой — инженер—электрик ТЭЦ. Зовут его все Георгий Акимович.
Все сидят и курят при свете "летучей мыши". Щель неплохая, обшита досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении по инженерному делу, в виде буквы Н, с двумя входами.
— Что без омметра делать будем? — спрашиваю я.
Георгий Акимович искоса поглядывает на меня.
— У нас мостик Уитстона есть.
— Что же вы молчите?
— Вот и говорю. Только он в сейфе, а ключ у Пучкова — главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе.
— Надо послать, значит.
— Посылали уже. Они, видите ли, на "Красный Октябрь" уехали. Три часа тому назад еще звонили, что едут. И вот все едут.
У Георгия Акимовича очень подвижное лицо. Когда он говорит, движутся не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с лихорадочным румянцем. Во рту у него не хватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он шепелявит. Возраст его трудно определить,— по-видимому, ему лет тридцать.
— Две ночи кряду не спишь, и толку никакого.
Он нервно комкает папиросу и раздавливает ее каблуком.
— Вот позвонят сейчас по телефону — действуйте... А дальше что?
— Действовать,— отвечаю я.
— Рубильник включать? Да? Так, по-вашему?
Большие, с темными веками глаза его сердито сверлят меня.
— По-моему, так.
— А рабочие на станции? Вместе с машинами к чертовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами? У нас и так работы вот по сих пор будет,— он рукой быстро проводит по горлу.— Вообще ни плана, ни организации.
— Георгий Акимович,— перебивает его Львович. Он сидит в стороне, на запасных аккумуляторах, и сгибает и разгибает какую—то проволочку.
— Что — Георгий Акимович? Нужно все-таки мало—мальски мозгами шевелить. На ТЭЦ сейчас шестьдесят человек работает. Куда им деваться, если это... если придется все—таки тар-рарах устроить. Куда? Врассыпную? Куда глаза глядят? Потом... Есть какая-нибудь очередность у цехов? Нету. Литейный будет рваться, а мы только собираться, или наоборот... Вообще...— Он машет рукой и длинными сухими пальцами мнет папиросу.— Вот немец лупит сейчас из минометов, попал осколок в провод — и точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько раз говорил — идиотство держать Уитстона в сейфе. Нет. Воров боятся. Единственный, видите ли, аппарат во всем Сталинграде. А вот теперь сиди и жди у моря погоды.
Он делает несколько коротких, быстрых затяжек, тушит папиросу о стенку и встает.
— Может, приехал уже... По телефону никак не дозвонишься. Не коммутатор, а горе.
Игорь тоже встает.
— Ко мне в литейный не сходим? А? Посмотришь.
Мы идем в литейный.
— Как тебе этот тип? — спрашивает Игорь.
— Как сказать, не завидую его жене. Чахотка плюс несварение желудка, должно быть. Впрочем, все, что он говорит, сущая правда.
— А меня раздражает.
— Ты неврастеником стал, ей-богу,— все раздражает. Шапиро раздражает, Пенгаунис подворотнички стирает — раздражает, этот тоже не угодил. Какого же тебе рожна надо?
— Не люблю ворчунов, что поделаешь. А этот уж такая экспансивность, что, того и гляди, полные штаны будут.
— Поживем — увидим. Надо вот Седых и Валегу на капсюлях натренировать. Чтоб как часы втыкали и не боялись.
Седых улыбается.
— А чего там бояться. Я таких вот сазанов толом глушил, когда в Купянске стояли. Там рыбы знаете сколько? Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу — двумя руками не подымете. Я уже видал, тут челнок за забором лежит.
У входа в литейный группа рабочих окружила здоровенного парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разодран, на повязке красные пятна.
— До института, сволочи, добрались. Тр-р, тр-р из автоматов... А у нас — винтовки. Только ко входу подходим, а они из окон тр-р-р, тр-р-р... Хорошо КВ* подошел, ахнул прямо в дом. Они так и посыпались, как тараканы. Сейчас на той стороне Мечетки.
Глаза у парня блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев, и ему не хочется кончать своего рассказа.
— Только один выстрел КВ дал. Во второй этаж угодил. Так и полетели камни. А фрицы с заднего хода — от дерева к дереву.
— А много их, фрицев-то? — спрашивает кто-то из толпы.
— На нас с тобой хватит. Дивизии две будет, а то и больше.
— А ты что, считал?
— Считал...— Парень презрительно плюет и встает, придерживая правой рукой левую.— Пойди и посчитай. Там только арифметикой и заниматься,— машет он здоровой рукой.— Где медпункт, хлопцы? С вами наговоришься.
На обратном пути опять встречаем раненых — старика и мальчика. Один в руку, другой в голову. Оба легко. Немцы все еще за оврагом. Стреляют из минометов. В атаку не идут. Наши тоже. Паршиво, что нет настоящих командиров. Говорят, завтра должны стрелковые части подойти с артиллерией. Два раза немецкие танки подъезжали к оврагу, немного постреляли и ушли. Наши тоже мало стреляют, боеприпасов, вероятно, нет. А в общем, ничего — жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой завод. И, совсем по—молодому подмигнув глазом, старик вместе с мальчиком идет искать медпункт. Прибитая к фонарному столбу дощечка с наспех нарисованным красным крестом указывает в сторону Волги. Когда мы шли в цех, ее не было.
————————————————————————————————————————
* КВ — танк "Клим Ворошилов".
В щели Георгий Акимович уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый, весь лакированный, с массой контактов. Георгий Акимович в хорошем настроении. Сеть исправна.
— Видите, как стрелка роскошно прыгает? Не мостик, а сказка. Другого нет такого в Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный как черт. Сейчас все детонаторы ваши перекалибруем. Есть запасные?
— Хоть пруд пруди,— отвечает Ведерников,— сотни две или три.
Только—только заканчиваем калибровку — подбор капсюлей с одинаковым сопротивлением — и заменяем капсюли на зарядах, как начинается обстрел. Длится около часу. Через каждые две-три минуты по снаряду. Большинство ложится вокруг станции. Несколько попадает в машинный зал, два в котельную. Их называют минами, но это не мины. У мины нет пробивной силы, а в машинном зале зияют дыры в потолке.
Стрелка прибора беспомощно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимович ищет свою кепку с пуговкой.
— Закопать надо провод, от осколков житья не будет.
И, не дождавшись конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь у нас последовательная, и при малейшем порыве она выключается целиком. При параллельном соединении порыв найти легче — цепь разбивается на участки, и каждый участок можно проверять в отдельности.
Мы проходим по всему проводу, щупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках. Георгий Акимович все время на него кричит, чтоб он был осторожней,— другого такого теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро, с третьим возимся довольно долго, но и его находим в конце концов. Георгий Акимович быстро и ловко обматывает липучкой раненое место.
До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимович не сводит глаза с Уитстона, но все проходит благополучно — порывов нет.
Часов в восемь приезжает Гольдштаб. Привозит омметр. Это нам значительно облегчает поверку порывов. Спрашивает, как у нас обстоят дела. Мешки со взрывчаткой надо будет перетащить из машинного зала в подвальные камеры, под каждый генератор. Это безопасней и не так будет нервировать рабочих. Потом надо, чтоб обязательно кто-нибудь из нас или бойцов дежурил на самой станции. А в общем — быть готовым к ночи.
Гольдштаб отводит меня и Львовича в сторону. Потирает руки.
— Помните, что после предварительной команды — более получаса у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Львович. Керженцев — за взрыв.
— Ясно. А очередность?
— Никакой очередности. И первая и вторая команды подаются во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани. Вы знаете, Львович, где. Будет моторка.
— Ясно.
— Все ясно?
— Все.
Гольдштаб уезжает. Где-то совсем рядом, за литейным, взлетают ракеты. Трещат автоматы, изредка пулеметы.
Рядом с дверью прямо к стенке прибит рубильник. Маленький, обыкновенный, с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него: один к аккумуляторам — их восемь, черных ящиков, закопанных в яму; другой к зарядам — восьмидесяти мешкам с аммонитом по три пуда каждый. Один провод откручен, торчит. Ручка рубильника откинута, привязана веревочкой, на всякий случай. А через час или два, а может, и раньше, позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку, еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник. И тогда... Ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, метлахскими плитками. Ничего...
Сидим и курим. Валега штопает брюки. Седых с сержантом на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимович поминутно включает мостик. Игорь лежит на нарах и смотрит в потолок.
В двенадцать звонит Гольдштаб — проверить сеть и не спать.
В щели так накурено, что лиц разобрать нельзя, как на плохо проявленном негативе. В три опять звонок. Мы все вздрагиваем. Звонит Большов — нет ли десятков двух лишних капсюлей калиброванных. Есть. Он пришлет тогда сержанта за ними. Ладно.
— Ну, а вообще как, спокойно?
— Спокойно. А у вас?
— Как будто. За оврагом постреливают, а так ничего.
Опять курим. Выходим на двор, смотрим на звезды, ракеты, четырехтрубную громаду ТЭЦ. Возвращаемся. Садимся. Курим. Включаем мостик. Выключаем. Молчим.
В пять снова звонок. Можно ложиться спать. Говорит Гольдштаб.
Слава тебе господи...
Ложимся прямо на голые нары, сдвинув пистолеты на живот.
Напрасно мы свои шинели у Гольдштаба оставили.
16
То же самое повторяется и во вторник, и в среду, и в четверг. Обстрелы, порывы, дежурства, ожидание звонка — и в пять часов можно спать.
Атмосфера разряжается.
Дни проходят один за другим, ясные, голубые, с летающими паутинами.
Приказа все нет.
От города, по-видимому, ничего уже не осталось. Немцы бомбят его с утра до вечера. Над ним непроходящее облако дыма и пыли. Горят нефтехранилища. Черный, как копоть, дым иногда застилает солнце, и тогда на него можно смотреть не щурясь, как сквозь закопченное стекло во время затмения.
Бои идут в южной части города, у элеватора, и в северной — на Мамаевом кургане.
В нашем овраге без перемен. Как-то ночью прошли две дивизии. Шли долго, беспрерывно, всю ночь напролет, батальон за батальоном. С артиллерией, обозами. Раза два немцы пытались перебраться через овраг, и тогда начиналась автоматная трескотня — обычно ночью, и Гольдштаб звонит: "Будьте готовы",— а утром все успокаивается, и мы ложимся спать.
Начинаем обживаться в своей щели. Проводим электричество, готовим еду на плитке, стены завешиваем великолепным ватманом из заводского техотдела. У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки: Одесский опе— рный театр и репродукция репинских "Запорожцев".
Седых приволакивает откуда-то учебник географии Крубера, письма Чехова, "Ниву" за двенадцатый год.
По вечерам, усиленно слюнявя палец, читает. Морщит лоб, шевелит губами. Иногда спрашивает, что значит "тезоименитство", или "генерал от инфантерии", или откуда у цесаревича Алексея столько орденов, если ему только семь лет. Мне нравится Седых, нравится его курносая детская физиономия, его чуть раскосые, смеющиеся глаза, брызжущая из него молодость. Даже смешная привычка ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится.
Он как-то все делает с удовольствием и с аппетитом. Моется так, что, глядя на него, самому хочется мыться, отчаянно фыркая, брызгаясь на версту и шумно шлепая себя по плечам и животу. Скажешь ему — принеси немного дров, он притащит чуть ли не кубометр. Молодые мышцы его рвутся в бой. Гайки он откручивает просто пальцами. С Игорем он затевает борьбу, и Игорь после этого два дня не может повернуть шеи. А Игорь считает себя мастером французской борьбы и до тонкости знает всякие там тур-де-бра и тур-де-теты.
Любознателен Седых до смешного. Подсядет, обхватит руками колени и слушает, слегка приоткрыв рот, как дети сказку. Вопросы его неожиданны и по-детски наивны. Почему немцы не могут разгадать секрет "катюши", и почему компасная стрелка на север показывает, и правда ли, что у Рузвельта ноги не работают.
Вечером однажды идет разговор о героях и наградах. Седых слушает внимательно, сосредоточенно, обхватив руками колено,— его любимая поза.
— А что нужно сделать, чтоб орден Ленина получить? — спрашивает он.
Все смеются.
— Ну, не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше.
Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча, смотря куда—то в угол. На губе прилипший окурок.
— Тогда все,— тихо говорит он.
— Что "все"?
— Будет у меня орден.
И говорит об этом страшно просто и убедительно, как о чем—то уже совершившемся. Встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину, так не вяжущуюся с золотистым пушком на щеках, вспоминаю, как он тер тряпочкой автомат перед атакой, каждый винтик, каждую щелочку, и я верю тому, что он сказал.
Валега ревнует меня к нему. Это видно по всему.
— У старшего лейтенанта Свидерского нет ординарца — иди к нему,— угрюмо говорит Валега и забирает у него из рук кружку, из которой он мне поливает.
Седых приносит откуда—то охапку соломы. Валега щупает, морщится: "Лейтенант не будут на такой дряни спать",— и приносит другую, ничем не отличающуюся от предыдущей охапку.
Но, в общем, живут дружно, варят вместе обед. Валега немного покрикивает, критикует недоваренную кашу. Седых весело смеется, передразнивает Валегу и называет его почему-то "шнапсом".
По вечерам Валега и Седых вяжут заряды. У нас в резерве ящиков пять тола. Утром глушат рыбу и приходят с трепещущими в ведрах осетрами и стерлядями.
Сержанта Ведерникова переводят куда—то в другой цех, и мы его больше не видим. Шапиро и Пенгауниса тоже редко встречаем. Иногда заходит к нам Большов, и мы, подложив толстую "Ниву", режемся в "козла" или "двадцать одно". Георгий Акимович не выносит этого, хватает письма Чехова и демонстра— тивно уходит в свой угол. Он спит на двери, положенной между двумя нарами.
Мне он начинает нравиться, несмотря на свой сварливый характер и вечное недовольство чем-нибудь. Работает он, не покладая рук и не жалея себя. Цепь проверяет и поправляет всегда сам, а рвется она у нас по три-четыре раза на день. Ворчит, ругается, кипятится, обвиняет всех в безделье, но ТЭЦ свою и каждую машину, каждый винтик в ней обожает, как живое существо. Вообще в нем мирно уживаются пессимизм и брюзжание с невероятной энергией и активностью.
— Куда нам с немцами воевать,— говорит он, нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины.— Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года.
Игорь вспыхивает. Он вечно сцепляется с Георгием Акимовичем.
— Что вы хотите этим сказать?
— Что воевать не умеем.
— А что такое уметь, Георгий Акимович?
— Уметь? От Берлина до Волги дойти — вот что значит уметь.
— Отойти от границы до Волги тоже надо уметь.
Георгий Акимович смеется мелким, сухим смешком. Игорь начинает злиться.
— Чего вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали — и развалилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем одни как перст.
— Что вы с Францией сравниваете. Сорок миллионов и двести миллионов. Шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петены, лавали, спокойненько работающие теперь с немцами. Нет. Воевать мы не умеем. Это факт.
— Вот-вот-вот...— горячится Игорь.— Петены и лавали. Именно петены и лавали. А у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?
Георгий Акимович улыбается уголком рта:
— Никакой.
— Ага! Никакой? Вы сами признаете, что никакой.
— Признаю. Но разве от этого легче? Разве от сознания того, что другие страны менее, чем мы, способны к сопротивлению,— разве от этого легче? Это называется убаюкивать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками.
— Наши танки не хуже немецких. Они лучше немецких. Один танкист мне говорил...
— Не спорю, не спорю. Возможно, что и лучше, я в этом не разбираюсь. Но одним хорошим танком не уничтожить десять посредственных. Как по-вашему?
— Подождите... будет и у нас много танков.
— Когда? Когда мы с вами на Урале уже будем?
Игорь вскакивает как ужаленный.
— Кто будет на Урале? Я, вы, он? Да? Черта с два! И вы это сами прекрасно знаете. Вы это все так, из какого-то упрямства, какого-то дурацкого желания спорить, обязательно спорить.
Георгий Акимович дергает носом, бровями, щеками.
— Чего вы злитесь? Сядьте. Ну, сядьте на минуточку. Можно ж обо всем спокойно.— Игорь подсаживается.— Вот вы говорите, что и отступать надо уметь. Верно. Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы. Но тогда мы теряли только территорию, да и то это была узкая полоска. И Наполеон, кроме снегов и сожженных сел, ничего не приобрел. А сейчас? Украины и Кубани нет — нет хлеба. Донбасса нет — нет угля. Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас — это все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых пятидесяти миллионов, находящихся под сапогом у фашистов, мы недосчитываемся. В силах ли мы все это преодолеть? По—вашему, в силах?
— В силах... В прошлом году еще хуже было. Немцы до Москвы дошли, и все—таки отогнали...
— А я вот не уверен, что хуже. Донбасс, Ростов, Кубань, Майкоп, были наши. Сейчас их нет. Волжская коммуникация фактически перерезана. Вы представляете себе, какой путь должна теперь делать бакинская нефть? Вы скажете — Кузбасс, Урал весь. Верно. Это мощные промышленные узлы. Но до начала войны, кроме них, были еще Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Мариуполь, Керчь, Харьков. И все-таки не сдержали. Часть заводов мы эвакуировали, но эвакуировать еще не значит пустить в ход. А тем временем, видите, что делается...
Над нами как раз проходит отбомбившаяся партия "Ю—88". Медленно заворачивает и идет на другой заход.
— Они даже без истребителей ходят... Безнаказанно, сволочи, как у себя дома...
Некоторое время мы молчим и следим за плывущими в небе черными, противными, такими спокойными и уверенными в своей силе желтокрылыми самолетами. Георгий Акимович курит одну папиросу за другой. Вокруг него уже с десяток окурков. Смотрит в одну точку, туда, где скрылись самолеты.
Игорь сидит и бросает камешки в лежащую неподалеку банку из—под консервов. Камни ложатся совсем рядом, но никак не могут угодить в банку. Кажется, будто он с головой ушел в это занятие.
И вдруг встает.
— Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут. И уходит.
* * *
Не может быть... Это все, что пока мы можем сказать. Не может быть...
Был же когда—то семнадцатый год. И восемнадцатый и девятнадцатый. Ведь хуже было. Тиф, разруха, голод. "Максим" и трехдюймовка — это все. И выкрутились все—таки. И Днепрогэс потом построили. И Магнитогорск, и вот этот самый завод, который я должен теперь взрывать.
Георгий Акимович на это только улыбнется, я знаю. Снисходительно улыбнется. Когда он говорит об этом, он всегда говорит так, как будто мы маленькие дети. Улыбнется и скажет что-нибудь о том, что это был четвертый год войны, вымотавший не только нас, но и всех, что французские, английские и немецкие солдаты не хотели уже воевать. И еще что-нибудь в этом роде.
Он как—то сказал:
— Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками.
Чудо?..
Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели, тихо, вполголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днипро и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги, на примятой траве, под акациями. Мигали огоньки цигарок. И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев.
— Нет, Вась... Ты уж не говори... Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как масло, земля — жирная, настоящая.— Он даже причмокнул как-то по-особенному.— А хлеб взойдет — с головой закроет...
А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди неизвестность и почти неминуемая смерть.
Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул:
"Приготовиться к движению!" Все зашевелились, загремели котелками. И пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено, должно быть, красным крестиком.
Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат.
Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом.
Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас — смерть.
А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то... Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами.
Я смотрю сейчас на Георгия Акимовича. Маленький, желчный, в лоснящемся пиджаке, он, скрючившись, сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые. У него тонкие, бледные руки с голубыми жилками и такие же жилки на висках. У него дома, вероятно, страшный беспорядок, дети его раздражают, и с женой он ругается. Он и до войны, вероятно, многое находил плохим, и все его раздражало.
А вот вчера на моих глазах около него разорвался снаряд. Шагах в двадцати, не больше, разорвался. Он только слегка наклонился и продолжал искать порыв. Обмотал поврежденное место и потом еще проверил весь провод на участке, вокруг места разрыва.
— Вы понимаете,— говорил он мне потом,— с этим заводом связана вся моя жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди с теодолитом. На моих глазах выросла ТЭЦ и все эти цехи. Я пять ночей не спал, когда устанавливали генератор номер шесть, вы его знаете, второй от окна. Я их знаю как облупленных. Характер, привычки каждого. Вы понимаете, что значит для меня взрыв? Нет, вы не понимаете. Вы военные, вам просто жалко завод — и всё. А для меня...
Он не договорил и ушел к своему мостику.
Полтора месяца тому назад мы сидели с Игорем на корявой колоде у дороги, смотрели, как отступали наши войска. Фронта не было. Были дороги, по которым ехали куда-то машины. И люди шли. Тоже куда-то...
Это было полтора месяца тому назад — в июле. Сейчас сентябрь. Мы уже десятый день на этом заводе. Десятый день немцы бомбят город. Бомбят,— значит, там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт. Значит, лучше сейчас, чем в июле.
Около ТЭЦ разрывается снаряд. Начинается обеденный обстрел. С трех до половины четвертого, с точностью хронометра. Через полчаса надо идти чинить сеть. Валега и Седых с котелками бегут за обедом.
17
Дня через два, рано утром, является в нашу щель Гольдштаб. С ним не менее десятка командиров.
Мы сидим на ступеньках щели и мастерим целлулоидовые портсигары. В заводской лаборатории тонны разнообразнейшего целлулоида и красиво переливающаяся в больших, аптекарского вида, бутылях грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся портсигарами. Пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед.
— Ну, что ж, будем прощаться,— говорит Гольдштаб, вертя в руках миниатюрный игоревский портсигар с выдвигающейся крышкой.— Пришла ваша смена. Саперы двести семнадцатого АИБ*.
— А нам куда?
— На ту сторону. В штаб фронта — инженерный отдел.
Ну что ж, тем лучше. Мы сдаем свои объекты и через полчаса уже шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров.
С Георгием Акимовичем мы почему—то даже целуемся, прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба:
— Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: "Ну, кто был прав?" И я скажу: "Вы".
Он провожает нас до тропинки, сбегающей по рыжим обрывам до самой Волги, и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой.
Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой небольшой, запоминающийся след и скрылся, по-видимому, навсегда.
————————————————————————————————————————
* АИБ — армейский инженерный батальон.
Потом мы сидим на левом берегу на опрокинутой рассохшейся лодке и смотрим на дымящиеся трубы Тракторного. Он ни на минуту не прекращал работы. И Шапиро рассказывает нам, что в июле завод выпускал по тридцать танков в сутки, а в августе даже до пятидесяти, сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин, и что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то причалы какие-то.
Ночуем мы в небольшой избушке прямо в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника — ориентир, по которому можно найти инженерный отдел фронта.
Штабов и тылов так много, в каждой рощице и лесочке, что найти нужный нам отдел совсем не просто. Везде часовые, колючая проволока, таблички: "Прохода нет".
К вечеру все-таки находим. Отдел, но не домик. Домика давно уже не существует. Только на карте — черный прямоугольничек с косой веточкой сбоку. Отдел состоит из четырех землянок. В одной из них,— она так замаскирована, что мы минут десять топчемся вокруг нее,— сидит майор в страшно толстых очках без оправы и целлулоидовом воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета и сразу оживляется.
— Замечательно! Просто замечательно! А я уже не знал, что делать. Садитесь, друзья... Или нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться.
Оказывается, только что перед нами — "вы не встретились?" — был капитан из инженерного отдела 62—й армии. У них нехватка полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться 184—я дивизия, а утром, во время бомбежки, вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор — сержанты вместо полковых инженеров. В резерве — ни души. Сколько уже с этим Тракторным возятся, два раза запрос делали.
— Короче говоря... вы, вероятно, голодны? Сходите в нашу столовую, прямо по этой тропиночке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете поймать еще дивизию на этой стороне.
Поев рисовой каши с повидлом, заходим к майору. Он мелким, женским почерком, с изящно завивающимися хвостиками у "д", надписывает конверты.
— Кто из вас Керженцев?
— Я.
— Вам отдельно. В Сто восемьдесят четвертую. Советую поймать ее здесь. Часов с восьми они будут двигаться на переправу из Бурковского. А то завтра всю передовую исползаете и не найдете.— Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты.
— Постарайтесь увидать дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее.
Остальные получают общее направление в штаб инженерных войск 62—й армии.
— Он на той стороне. Вчера был в Банном овраге. Сейчас куда—то, кажется, перебрался. Но где—то в том же районе. Поищите.
— А в Сто восемьдесят четвертую больше не нужно саперов? — спрашивает Игорь.— Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя.
Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы.
— Вы старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего,— и, почесав карандашом переносицу, добавляет: — Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в Сто восемьдесят четвертую направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из Шестьдесят второй представитель приедет за лопатами, вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь, под осинками.
Мы уходим под осинки.
— Ты пешком пойдешь? — спрашивает Игорь. — Дойду до регулировщика, а там посмотрю.
— Я тебя провожу.
Я прощаюсь с Шапиро, Пенгаунисом и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку.
— Мы еще встретимся, товарищ лейтенант.
— Обязательно,— нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. Я бы с удовольствием взял его в свой взвод.
Через несколько минут он догоняет нас.
— Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить. А у меня хороший — двойной.
Он сует мне в руку прозрачный желтый портсигар, таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в карман,— в него добрых полфунта табаку войдет. Опять жмет руку. Потом Валеге, потом опять мне.
Мы молча доходим до регулировщика.
— Сто восемьдесят четвертая еще не проходила. Какой-то саперный батальон недавно шел, а так все машины,— говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими жидкими усами и большими торчащими запыленными ушами.
Мы садимся в кузов разбитой машины и закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это — от заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые и черные, как сажа. Чем выше, они все больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную, длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. Вот уже более двух недель стоит она такая — спокойная и неподвижная над горящим городом.
А кругом золотые осинки на черном фоне, тонкие, нежные. По дороге проезжают машины. Останавливаются, спрашивают, как проехать на 62-ю переправу или хутор Рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках и треугольниках от шин. Трудно понять, где ее края и куда она заворачивает. Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился, и табличка с надписью "Сталинград — 6 км" указывает прямо в небо.
— Дорога в рай,— мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал. Подходит регулировщик:
— Во-он журавли полетели,— и тычет грязным, корявым пальцем в небо.— Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры?
Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым, в небе треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычут журавли.
— Совсем как "юнкерсы",— говорит регулировщик и сплевывает,— даже смотреть противно.
Эта ассоциация промелькнула, по—видимому, у всех нас, и мы смеемся.
— Что, туда или оттуда? — спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить.
— Туда.
Он качает головой и делает несколько затяжек:
— Да... Невесело там, что и говорить...— и отходит. Проходят раненые. Поодиночке, по двое. Серые, запыленные, с утомленными лицами. Один подсаживается, спрашивает — нет ли напиться. Валега дает ему молока из фляжки. Он пьет долго и медленно, обливаясь молоком. Он ранен в грудь, и сквозь рваную гимнастерку сереют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди.
— Ну, а как там, на передовой?
— Паршиво,— равнодушно отвечает он, с трудом вытирая запекшиеся губы грязной, запачканной кровью рукой. В глазах его, серых, как и весь он, кроме страшной, смертельной усталости, ничего нет.
— Здорово жмет?
— Куда там, головы не подымешь.
Он хочет встать, но закашливается, и на губах у него появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди у него что-то хлюпает.
— Народу мало... Вот что погано...
— А в городе кто? Они или мы?
— А кто его знает, где там город... Горит все... Бомбит с утра вот до сих пор... Дай-ка еще глотнуть, сынок.
Он вяло, будто нехотя, прижимается губами к горлышку фляжки, и из углов рта его тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом он встает и уходит, с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую палку.
К регулировщику подъезжают трое верховых. Я посылаю Валегу узнать — не из нужной ли они нам дивизии. Он идет к ним и что-то спрашивает, держась рукой за повод. Возвращается.
— Говорят, Сто восемьдесят четвертая напрямик к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов.
Всадники скачут дальше, поднимая облако пыли.
— Ну, что ж, я пойду,— говорит Игорь.
— Ну, что ж, иди,— отвечаю я и протягиваю руку. Кажется, надо еще что-то сказать, но у нас не получается.
— Я не прощаюсь,— говорит Игорь.
— Я тоже.
Мы трясем друг другу руки.
— Будь здоров, Валега. Смотри за лейтенантом хорошенько.
— Обязательно... Как же.
— Ну, я пошел.
— Всего, Игорек.
— Да... У меня твой нож перочинный, кажется, остался.
— Разве?
— Вчера я у тебя брал, когда хлеб резали.— Он шарит по карманам.— Вот он, за подкладку завалился.
Игорь протягивает нож — Валегин трофей, золингеновский роскошный нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов.
— Ну, теперь все. Будь здоров.
— Будь здоров.
И он уходит своей обычной, непринужденно-ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы.
Неужели я и с ним уже никогда не увижусь?
18
На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. Людей больше всего — ругающихся, сталкивающихся, отнимающих друг у друга что-то. Кто-то на кого-то наехал. Забыли какие-то ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут катера. Ругают его. Уже давно должен быть, и все нет.
Грузятся сразу две дивизии — 184-я и еще какая-то, 29-я, кажется.
И во всей этой суматохе надо найти какого-то дивинженера, или командира дивизии, или начальника штаба, вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений. А распоряжений, вероятно, никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет: и пушки все надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять, и вообще какого черта вы сейчас лезете, когда видите, что делается.
Я нахожу инженера, но не того, командира полка, но тоже не того.
Кто-то дергает меня за рукав.
— Слушай, друг, фонарика нет?
— Есть.
— Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь...
Я различаю только массивную фигуру в телогрейке с болтающимся на груди автоматом.
— Давай под лодку залезем. Две минуты только... Ей-богу.
Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик. Горит он тускло — батарея кончается. У человека, оказывается, крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке шпала. С трудом вытягивает из лопающейся от бумаг перетянутой резинкой планшетки карту.
— Вот иди разбери,— тычет он грязным ногтем в красный неровный треугольник на карте.— Карта называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь! — и он длинно и заковыристо ругается.— Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Ни души. Теперь ищи этот треугольник в городе. КП ихнее — дивизионное. Ни ориентира тебе, ничего.
Я спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147-го полка 184-й дивизии.
— Не у вас сегодня инженера убило?
— У нас. Цыгейка. А что?
— Я на его место прислан.
— Ну!..— крупнолицый капитан даже удивился.— Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит.
Мы вылезаем из-под лодки.
— Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин.
Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.
Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать — пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга — неделями, месяцами на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. "Точно кровь",— мелькает в голове.
Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя — могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.
В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки — большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе "блерио", "фарманы" и "таубе". Трудно было оторваться.
Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.
Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.
Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она не плохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.
На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.
Откуда—то из-за спины стреляет "катюша". Мы видели машины — восемь штук,— когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе и ударяют куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.
Кто-то рядом со мной плюет и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.
— Ты мерина успел подковать? — спрашивает кто-то.
— Успел. А ты?
— Лютика успел, а вороному только две передние. У него какая-то рана. Никак не дается.
Приходит комбат. Тяжело дышит.
— Ей-богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь.— Он громко сморкается.— Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом Двадцать девятая. Только на минуту отошел от причала, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт.
Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.
— Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там...
Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль-ноль закончить переправу; а к четырем ноль-ноль сменить почти не существующую уже на том берегу дивизию в районе "Метиз" — Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное, надо всю артиллерию — сорока пяти и семидесяти шести, приданную батальону,— к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.
— Хорошо,— говорю я,— дашь мне две роты и петеэровцев, а сам, с одной ротой, занимайся артиллерией. У тебя по скольку человек в роте?
— Человек по сто.
— Роскошно. Договорились, значит. Мне только точно место назначения дай.
— Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся.
И он опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.
Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтобы его не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем.
Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.
Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания, все идет спокойно и организованно. Даже комбата моего не слышно.
Мы отчаливаем, когда уже начинает светать, и сплошная масса, как казалось раньше, чего-то неопределенного за нашей спиной превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.
— Большой он все-таки,— говорит кто-то за моей спиной,— как Москва.
— Не большой, а длинный,— поправляет чей-то мальчишеский голос,— пятьдесят километров в длину. Я был до войны.
— Пятьдесят?
— Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного. Ого!
— Что "ого"?
— Войск много надо, чтоб удержать. Дивизий десять. А то и пятнадцать.
— А ты думаешь, тут меньше? Каждую ночь перебрасывают.
Катер огибает острую, почти незаметную в темноте косу. Где-то над нами пролетают со свистом мины. Ударяются позади в воду.
— Не нравится фрицу, что едем, в Волгу спихнуть хочет.
Мальчишеский голос смеется:
— А чего же ему хотеть? Конечно, спихнуть. Рус бульбуль,— и опять смеется.
— Фрицу многое чего хочется,— вступает кто-то третий, по-видимому, пожилой, судя по голосу,— а нам никак уже дальше нельзя... До точки уже допятились. До самого края земли. Куда уж дальше...
Слышно, как кто-то кого-то хлопает по шинели.
— Правильно, папаша. Вот это по-нашему, по-моряцки. Сами уж никак купаться не полезем. Больно вода холодная... Правда?
И все смеются.
Я стараюсь повернуть голову. Это очень трудно,— я сжат со всех сторон. Скошенным глазом вижу только белесые пятна лиц и чье-то ухо. Мы подъезжаем к берегу.
19
Катер опять никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мутную и холодную.
На берегу тащат какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и просто на земле раненые — молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу.
Берег у реки плоский, песчаный. Дальше — высокий, почти вертикальный обрыв. И над всем красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно, и я надеваю шинель.
Комбат — оказывается, его фамилия Клишенцов — кричит на кого-то, не так повернувшего пушку:
— Ну, чего ты ее лафетом вперед тычешь. Мозги, что ли, не варят, телячья голова...
Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно, закуривают. Клишенцов подбегает ко мне. Он совсем уже охрип.
— Бери четвертую и пятую и двигай! А я пушки сгружу. И сразу за вами... Связного только пришлешь, чтоб зря не шататься. Сидорко такой у меня есть. Все найдет. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты.— И, притянув к себе за борт шинели, шепчет в ухо: — Говорят, от той дивизии ничего не осталось. Постарайся наших разведчиков найти. Они где-то там... В бой без меня не впутывайся,— сует мне в руку фляжку.— На, подкрепись на дорогу.
Водка приятно обжигает горло и горячей струйкой пробегает внутри.
Командиры собирают людей. Один долговязый, сутулый, в короткой по колено шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов — "видите ли", "собственно говоря", "я склонен думать". Другой, Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. Меня это не очень радует.
Идем вдоль берега, в сторону города. Ноги вязнут в песке. Иногда приседаем, когда свистят мины. Бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша, придерживая руками болтающиеся мины. Они сегодня прошли около сорока километров.
Навстречу — вереницы раненых, по двое, по трое или в одиночку, опираясь на винтовки. Спрашивают, где переправа.
Пули свистят над самой головой. Шлепают в воду. Трассирующие высоко подпрыгивают и гаснут, в воздухе.
— Где немцы? — спрашивают бойцы у встречных. Те неопределенно машут в ту сторону, куда мы идем.
— Недалеко... Ближе, чем до дому...
Проходим мимо белой постройки, должно быть водокачки; от нее тянутся трубы. Потом дорога подымается вверх. По ней на руках тащат вниз пушку.
— Куда? — спрашиваю.
Никто не отвечает.
— Куда пушку тащите?
— А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам, что ли, оставлять.
Я вынимаю пистолет.
— Поворачивай назад...
— Куда?
Кто-то в расстегнутой шинели, в съехавшей на затылок пилотке толкает меня в грудь.
— Видали мы таких... Герой! Не обращай внимания, Кацура! Тащи!
Я чувствую, что мне вдруг не хватает воздуха и что-то сжимает горло.
Пули ударяют уже по самому берегу.
На верху дороги,— отсюда виден только задранный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки,— появляются несколько фигур. Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз.
Кто-то задевает меня плечом и чертыхается.
Я поворачиваюсь и ударяю с размаху в белое, прыгающее передо мной лицо.
— Назад!..— кричу я во все горло так, что у меня в ушах звенит, и бегу вверх по дороге.
Немцы оказываются сразу же за железной дорогой. Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшие вереницы цистерн на фоне чего-то горящего. Строчит наш пулемет откуда—то справа, из-под колес.
Я пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и трещит. Ужасно мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к рельсу — он приятный и холодный,— стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям — улица. Мощеная, страшно прямая. Налево нефтебаки. Из одного валит дым. В стене три большие дыры от снарядов с рваными краями. Точно раны. Направо обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой.
Немцы, по-видимому, сидят в баках — красные, белые, зеленые точки несутся оттуда. Цокают по цистернам.
Мысль работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, по-видимому, два, и, по-моему, ручные. Минометов нет. Это хорошо. Фарберу надо ударить слева — прямо в баки. Мне — по дороге — в обход баков справа. Пулеметы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки.
Фарбер отползает. Ползет неловко, как-то бочком, припадая на правую сторону.
Несколько пуль щелкает в цистерну, над самой головой. Тонкая, изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной, и я чувствую на лице мелкие, как из пульверизатора, брызги. Взлетает ракета. Освещает баки, сараи, каменную стенку. Неестественно пляшут тени, укорачиваясь и удлиняясь. Ракета падает где-то за нами, слышно, как шипит.
Пора... Я закладываю пальцы в рот,— свисток свой я потерял еще под Купянском. Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом.
Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа и слева кричат. Трещат автоматы. Бьют по колену засунутые в карман шинели магазины автомата. Кто-то с развевающимися ленточками бескозырки бежит впереди меня. Я никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, и я вижу только ленточки. Они страшно длинные,— вероятно, до пояса.
Я тоже что-то кричу. Кажется, просто "а-а-а-а". Бежать почему-то легко и весело. И мелкая дрожь в животе — от автомата. Указательный палец до боли в суставах прижимает крючок.
Опять появляются баки, но другие — поменьше, с трубами, извивающимися как змеи. Труб много, и через них надо прыгать.
За баками немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них серая шинель и раскрытый рот. Тоже исчезает. В висках начинает стучать, и почему-то болят челюсти.
Немцев больше не видно.
Впереди белые с железной решеткой ворота. Вот до них добегу и сяду, а потом дальше... Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, а передо мной асфальтовая дорожка и какие-то корпуса.
Потом я лежу на животе и никак не могу всунуть новый магазин в автомат. Руки трясутся. В пазу что-то застряло.
— Перебило автомат... Возьмите этот...
Это, кажется, Валега, но у меня нет времени оборачиваться.
Сквозь сетку — я лежу у низенькой каменной стенки, с мелкой, как в птичниках, натянутой сеткой — опять видны бегущие немцы. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижимая их к животам, и это похоже на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют трассирующими пулями.
Я выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг сразу тихо. Я пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться.
— Селедку, что ли, ели, товарищ лейтенант? — говорит кто-то, придерживающий фляжку, чубатый, в тельняшке и матросской бескозырке, маленькой и мятой.
Я допиваю воду. Никогда такой, кажется, вкусной, холодной не пил. Ищу Валегу. Он тут же, набивает магазин. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо, затяжка за затяжкой, докуривает бычок. Плюет на него и вдавливает в землю.
Впереди двор — асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ними свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блокпоста с балкончиком. Сзади тоже двор — пустой и большой.
Место дрянное: ни окопаться, ни укрыться — один низенький каменный заборчик.
Надо захватить будку и железо, это ясно. Здесь нам не усидеть. Я передаю приказание Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсюли в круглые с крупными насечками гранаты.
— Во... правильно,— подмигивает он черным сощуренным глазом.— Я эту будку знаю. Мировая будка. И подвальчик что надо!
— Ты был там?
— Всю ночь просидели. Пока фриц не выгнал.
С вечера еще пришли. Разведка. КП искали.
Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс. Фарбер подает знак, что у него все готово. Несколько позже — Петров. Немцы начинают стрелять из пулеметов откуда-то слева. Окопались уже, значит, сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали.
Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте,— одна нога отставлена, другая согнута,— уголком глаза, напряженного, немигающего, смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото,— кажется, имя.
Я даю сигнал.
Что-то мелькает — темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка. Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки метров шестьдесят, и двор абсолютно гладкий.
И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки. Исчезает в дверях. Немцы беспорядочно стреляют. Потом перестают. Видно, как они бегут за будкой. Их легко узнать по широким, без поясов, шинелям.
Все это происходит так быстро, что я ничего не успеваю сообразить. Вокруг пусто. Я и Валега. И чья-то пилотка на сером асфальте.
Перелезаем через сетку. Согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых. Все ничком. Лиц не видно.
Около будки длинная, теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваю туда. Кто-то роется в карманах убитого немца.
— Ты что делаешь?
Боец, не подымаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на угреватом, смуглом лице удивленно смотрят на меня.
— Как что?.. Трофеи беру...
Он засовывает что-то в карман, торопливо, путаясь в цепочке.
По-видимому, часы.
— Шагом марш отсюда, чтоб духу твоего не было!
Кто-то толкает меня в плечо.
— Да это же мой разведчик, лейтенант. Потише немножко. Я оборачиваюсь. С сигарой во рту, парень в тельняшке. Глаза у него узкие и недобрые. Блестят из-под челки.
— А ты кто?
— Я? — Глаза его еще больше суживаются, и на шершавых загорелых щеках прыгают желвачки.— Командир пешей разведки — Чумак.
Каким—то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта.
— Сейчас же прекрати этот кабак. Понятно? Я говорю медленно и неестественно спокойно.
— Собери своих людей, расставь посты. Через пятнадцать минут придешь и доложишь. Ясно?
— А вы кто такой, что приказываете? — Ты слыхал, что я сказал? Я лейтенант, а ты старшина. Вот и все. И чтоб никаких трофеев, пока не разрешу.
Он ничего не отвечает. Смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь взад и вперед.
Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет.
"Цвик-цвик..." Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им. Я приседаю на корточки. Одна из пуль волчком крутится у моих ног. Ударилась о что-то твердое. Разведчик даже не шевельнулся. Тонкие губы его чуть вздрагивают, и в глазах светится насмешка.
— Не понравилось, лейтенант, а?
И ленивым, привычным движением сдвинув крохотную бескозырку свою с затылка на самые глаза, он медленно, не торопясь поворачивается и уходит, слегка покачиваясь. Зад у него плотно обтянут и слегка оттопырен.
Двое бойцов тащат по траншее пулемет. Траншея узкая, и пулемет с трудом продвигается.
— Какого черта вы здесь возитесь, дорогу только загромождаете! — кричу я на них, и меня раздражает, что они молчат и только глазами моргают.
Чтобы меня пропустить, они встают и жмутся к стенке.
— Ну чего стали? Тащите дальше.
Они оба сразу хватаются за станину и стараются протиснуть пулемет дальше. Я перелезаю через него и иду по траншее.
— Точно с цепи сорвался...— доносится до меня голос одного из них.
Я сворачиваю вправо. Бойцы уже копаются в земле. Петров суетится, покрикивает на бойцов, никак не может установить пулемет,— он почему-то скатывается.
Петров еще очень молод. Недавно, по-видимому, из училища. Тоненькая шейка. Широченные, болтающиеся на ногах сапоги.
— Ну как, по-вашему, хорошо, товарищ лейтенант? — спрашивает он, подсунув под пулемет какой-то ящик. Смотрит вопросительными, невыносимо голубыми глазами.
— Ладно, сойдет.
— А второй у меня там, за тем заворотом. Хотите посмотреть? Оттуда всю насыпь видно.
Мы идем туда. Оттуда действительно хорошо видно. Немцы сидят за насыпью. Иногда мелькают каски.
Присев на корточки, я пишу донесение. Четвертая и пятая роты и взвод пеших разведчиков заняли оборону по западной окраине завода "Метиз". Людей столько—то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько преуменьшаю, хотя так или иначе рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов трудновато.
Сидорко, тот самый, которого рекомендовал мне Клишенцов, юркий, раскосый, похожий на китайчонка, только успевает засунуть донесение в пилотку, как немцы начинают атаку.
Откуда—то появляются танки. Шесть штук. Ползут справа. Из-за насыпи. Там, кажется, мост есть — от нас не видно. А у нас только четыре противотанковых ружья и десятка два гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять удрали... Вся надежда теперь на железо. Может, и не перелезут танки...
Рядом со мной загорелый бронебойщик с русыми, придающими молодцеватый вид, закрученными усиками. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все — телогрейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой, гладкой спиной.
В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяют коленями, чертыхаются.
Танки идут прямо на нас...
Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается.
Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся где-то сзади. Вероятно, болванки, разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос Чумака, резкий и гортанный. Кричит какому-то Ванюшке, чтоб гранат ему дали противотанковых.
— В подвале, в углу, где чайник стоит...
Один танк перебирается все-таки через железо. Лязгает гусеницами. Переваливаясь с боку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный, противный крест. Полуголый бронебойщик целится, расставив ноги и упершись задом в стенку траншеи. Пилотка свалилась, и на бритой голове белый, как спина его, незагоревший кружок.
Подобьет или не подобьет?
Крест все приближается...
Кто—то кричит мне в самое ухо. Ничего не могу разобрать.
— Что такое?
— Немцы обходят слева. Пехота их левей паровоза пошла...
Почему же пулеметы молчат? Ведь там два пулемета.
Я бегу вдоль траншеи. У пулемета Петров и еще кто-то. Заело. Не пролезает лента.
— Почему второй пулемет молчит? Голубые детские глаза готовы заплакать.
— Ей-богу, не знаю. Пять минут тому назад...
— Гранаты! Давай гранаты!
Пули свистят над самой головой.
Я бросаю гранаты одну за другой. Немецкие, с длинными ручками. Дергаю за шнурок и бросаю через бруствер. Немцы уже у самых окопов. Кричат...
Почему пулемет не работает?
— А-а-а-а-а-а...
Что—то валится на меня... Я отскакиваю, с размаху ударяю гранатой... Больше у меня ничего нет в руках. Что-то грузно оседает на дно траншеи. Я бросаю еще четыре гранаты. Это последние — больше нет. Где автомат, черт возьми?
Хочу выдернуть из кобуры пистолет, ремешок зацепился. Никак не вылезает... Черт!
И вдруг... тишина...
У ног моих кто—то в серой шинели, уткнувшись лицом в угол траншеи. Перед окопами никого. Пусто. Неужели отбили?
Я бегу по траншее назад. Бойцы щелкают затворами. Все как было. Петров у пулемета.
— Все в порядке, товарищ лейтенант. Работает.
Голубые глаза смеются весело, по-детски.
— Видали, как отсекли? Сразу побежали. Повернувшись к пулемету, он дает очередь. Худенькая шейка его трясется. Какая она тоненькая и жалкая! И глубокая впадина сзади. И воротник широк. Шея в нем болтается, как былинка. Вот так вот, вероятно, еще недавно стоял он у доски и моргал добрыми, голубыми глазами, не зная, что ответить учителю.
— А почему тот не работал? Он, по-моему, к вам тоже имеет кое-какое отношение.
Голубые глаза смущенно опускаются вниз.
— Я сейчас пойду узнаю, товарищ лейтенант.
Он подымается, опираясь на ствол пулемета. Руки у него тоже тоненькие, детские, с веснушками.
— Мне кажется...
Глаза его вдруг останавливаются, точно он увидел что-то необычайно интересное, и весь он медленно, как-то боком, садится на дно.
Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями.
Его оттаскивают. Беспомощно подпрыгивают по земле ноги — тоненькие, в больших болтающихся сапогах. На пулемете уже другой. И шея у него толстая и красная. Командиром роты назначаю политрука. Иду к белой будке.
Немцы молчат. По-видимому, готовятся к следующей атаке. По траншее волокут убитых. Они мешают сейчас живым. Складывают в боковую щель. Двое бойцов, согнувшись, несут кого-то. Я сторонюсь. Белые гладкие руки с загорелыми, точно в перчатках, кистями волочатся по земле. Лица не видно. Оно в крови. Голова мотается. На макушке белый, как тюбетейка, кружок от пилотки. Бронебойщик — тот самый. Тоже кладут в щель на кого-то в замазанных кровью штанах и с выглядывающей из-за обмотки алюминиевой ложкой.
Я не успеваю дойти до белой будки. Немцы опять атакуют. Отбиваем. Потом снова...
Так длится до обеда. Двадцать-тридцать минут отдыха — перекур, набивка патронов, кусок хлеба за щеку — и опять. Опять серые фигуры, крик, трескотня, неразбериха.
Один раз "хейнкели" высоко, из поднебесья,— мы даже их не замечаем,— бомбят нас. Но бомбы падают на немцев. Бойцы смеются.
Сидорко все еще нет. И двух других, посланных позже, тоже нет. Возможно, попали под бомбежку. В воздухе ни на минуту не прекращается гудение моторов. С вышки хорошо видно, как стелется белое облако над берегом.
После обеда откуда—то начинает стрелять наша артиллерия. Бьет по насыпи. Несколько шальных снарядов попадает и в наши окопы. Немцы не унимаются. Танков не пускают. Тот, с крестом, так и застрял на железе — подбили. Одолевают минометы. У нас много убитых и раненых. Легких отправляем на берег. Тяжелых переносим в подвал будки, просторный, с железобетонным перекрытием.
Часам к девяти немцы выдыхаются. В десять все успокаивается. Изредка только пулеметы пофыркивают.
20
В подвале невыносимо накурено. Дым стелется пластами. Коптит фитиль в тарелочке. Раненые — ими забит весь подвал — просят воды. А воды нет. Приходится с Волги носить, а по дороге все распивают.
Валега дает кусок хлеба и сала. Ем без всякого аппетита.
Чумак приходит в разодранной тельняшке, растрепанный. Садится на стол. На меня не смотрит. Стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистой и загорелой, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости. Ниже локтя — маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость, по-видимому, цела, кисть работает. Маруся — санинструктор, румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками — перевязывает рану.
Разведчики сегодня подбили два танка. Один — Чумак, другой — тот самый угреватый разведчик, из—за которого у нас стычка произошла.
Я спрашиваю Чумака, почему он ни о чем не докладывает.
— А о чем докладывать?
— О сегодняшнем дне. О потерях. Существует в армии такой порядок — докладывать после боя.
Чумак медленно поворачивается. Я не вижу его лица. Блестит потная, с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника, спина.
— День, сами видали, солнечный, а потери — ну какие же потери? Бескозырку потерял, вот и все. Будут еще вопросы?
— Будут. Только не здесь. Выйдем на минутку.
— А там пули. Убить может.
Я проглатываю пилюлю и направляюсь к выходу. Он тоже.
Прислонившись плечом к косяку двери, жует папиросу.
— Знаете что, товарищ лейтенант? Давайте по-мирному. Не трогайте разведчиков. Ей-богу, лучше будет.
— Лучше или хуже, другой вопрос. Сколько у вас людей?
— Двадцать четыре. Как было, так и осталось. А разведчиков, советую...
— Танк кто подбил?
— А кто бы ни подбил, не все ли равно?
— Вы подбили?
— Ну, я... Не вы же...
— Расскажите, как вы его подбили.
— Ей-богу, спать охота. После войны о танках поговорим.
— Рекомендую вам запомнить, что я сейчас за комбата.
— А я откуда знаю?
— Вот я вам и говорю.
— Комбат — Клишенцов. Кроме того, я подчиняюсь только командиру полка и начальнику разведки.
— Их сейчас нет, поэтому вы подчиняться должны мне. Я заместитель командира полка по инженерной части.
Чумак искоса смотрит на меня своим острым глазом.
— Вместо Цыгейкина, что ли?
— Да, вместо Цыгейкина.
Пауза. Плевок через губу.
— Что ж... Мы с саперами обычно душа в душу.
— Надеюсь, что и впредь так будет.
— Надеюсь.
— А теперь расскажите о танках. Как фамилия того второго, который подбил?
— Корф.
— Рядовой?
— Рядовой.
— Это его первый танк?
— Нет, четвертый. Первые три у Касторной.
— Награжден?
— Нет.
— Почему?
— А хрен его знает почему. Материал подавали...
— Через час дадите мне новый материал. О нем. И о других тоже. Ясно?
На этом разговор кончается. Идет он в самых сдержанных тонах.
— Разрешите идти, товарищ заместитель командира полка по инженерной части?
Я ничего не отвечаю и спускаюсь вниз. Все тело ломит. Режет глаза. Вероятно, от дыма — страшно все-таки накурено.
Составляю донесение. Рядом, положив голову на руки, спит Фарбер. Он забежал на минутку за табаком и доложить о потерях. И так и заснул над раскрытым портсигаром с недокуренной цигаркой в руке. В углу кто-то тихо разговаривает, попыхивая папиросой. Доносятся только отдельные фразы.
— А у меня как раз заело. Каблуком пришлось отбивать. Потом у Павленко прошу патронов. А он лежит, уткнувшись лицом в землю, и серое что-то течет...
Потом вдруг появляется Игорь. Стоит передо мной и смеется. И усики его не маленькие, черненькие, а, как у того бронебойщика, залихватски закрученные у углов рта. Я спрашиваю, как он сюда попал. Он ничего не отвечает и только смеется. И на груди у него синий орел с женщиной в когтях. Прямо на гимнастерке. И у орла прищуренные глаза, и он тоже смеется. Надо, чтобы он перестал смеяться. Надо сорвать его с гимнастерки. Я протягиваю руку, но меня кто-то держит за плечо. Держит и трясет.
— Лейтенант... А лейтенант...
Я открываю глаза.
Небритое лицо. Серые холодные глаза. Прямой, костистый нос. Волосы зачесаны под пилотку. Самое обыкновенное, усталое лицо. Немного слишком холодные глаза.
— Проснись, лейтенант, волосы сожжешь.
Тарелка с фитилем у самой моей головы невыносимо коптит.
— Что вам надо?
Человек с серыми глазами снимает пилотку и кладет ее рядом на стол.
— Моя фамилия Абросимов. Я начальник штаба полка.
Я встаю.
— Сидите,— переходит он вдруг на "вы".— Вы лейтенант Керженцев? Новый инженер вместо Цыгейкина, так я понял из вашего донесения?
— Да.
Он проводит рукой по лицу, по глазам, некоторое время, не мигая, смотрит на коптящий фитиль. Чувствуется, что он так же, как и мы, смертельно устал.
Я докладываю обстановку. Он слушает внимательно, не перебивая, ковыряя ногтем доску стола.
— Петрова, говорите, значит, убило?
— Да. Снайпер, должно быть. Прямо в лоб.
— Так-с...— Нижними зубами он покусывает верхнюю губу.
— Потери вообще довольно значительные. Убитых двадцать пять. Раненых около полусотни. Один пулемет вышел из строя. Осколком ствол перебило.
— А соседи кто?
— Слева второй батальон нашего же полка. Справа же...
Я задумываюсь. Фарбер мне говорил, но у меня выпало из памяти.
— Справа сорок пятый, товарищ капитан,— вставляет Чумак. Он стоит тут же рядом, засунув руки в карманы.— От них представитель приходил. Мы с ним стык уточняли.
— Сорок пятый...— задумчиво говорит Абросимов и встает. Застегивает телогрейку.
— Ну что ж, Керженцев. Пройдемся по обороне, а потом, потом придется тебе батальон принимать.
Он пристально, точно оценивая, смотрит на меня. Застегивает пуговицы. Они большие и никак не пролезают в петли.
— Клишенцова — комбата — убило. Бомбой. Прямое попадание. Придется временно покомандовать батальоном. Ничего не поделаешь...
И, повернувшись в сторону Чумака:
— Химику ногу оторвало. На ту сторону повезли. Ну, пошли, инженер. Или комбат, вернее.
Только когда мы выходим, я замечаю, что в углу копошатся связисты, двое, с желтенькими, вырезанными из консервной банки звездочками на пилотках.
Подымаемся наверх. У входа часовой. Я его уже знаю. Его фамилия Калабин. У него большое родимое пятно на щеке. Хороший стрелок. На моих глазах четверых убил. Он из-под Костромы, и дома у него жена ожидает ребенка.
На дворе прохладно. Я вдыхаю полной грудью свежий ночной воздух. Небо чистое и звездное. Большая Медведица над Мамаевым курганом — косая и яркая. Где—то над головой однообразно, как мотоцикл, тарахтит "кукурузник". Точно на месте топчется. Присмотревшись, различаю силуэт. Он летит к Мамаеву кургану. Справа, вероятно над "Красным Октябрем", висят ракеты, около десятка, осыпающиеся золотым дождем искр. Стрельбы никакой. Тишина.
Идем по траншее. Закутанные в шинели фигуры. Винтовки на брустверах. "Кукурузник" бомбит уже где-то за Мамаевым курганом,— видны вспышки. Щупают небо немецкие прожекторы. Подбитые танки — три штуки все-таки подожгли за день — все еще горят, и противный, едкий дым стелется над нашими окопами. Ветер в нашу сторону.
Я прощаюсь с капитаном на самом нашем левом фланге, у пробоины в стене. Дальше идет второй батальон.
— Ну, смотри, комбат, не подкачай. Завтра опять "сабантуй"... А патронов пришлем. И к утру уже пушки будут. С ними все-таки веселей.
И уходит вместе со своим связным в сторону полуразрушенного корпуса. Там, кажется, КП соседа.
Некоторое время видно еще, как они перепрыгивают через железо. Потом скрываются.
Прислонившись к брустверу, смотрю в сторону немцев. Там тихо и темно. В одном только месте что—то вроде огонька. Вспыхивает и гаснет. Неосторожный наблюдатель, должно быть. Курит. А может, так, тлеет что-нибудь.
До чего тихо.
А завтра опять "сабантуй". Самолеты, крик, трескотня.
Сегодня сдержали все-таки. Только в одном месте потеснили нас немцы. У Фарбера. На самом правом фланге. Метров на сорок. Придется перекинуть туда горбоносого лейтенанта с его взводом. Рамов, что ли, его фамилия. Боевой как будто парень. Мне он сегодня понравился. А часика в три — контратакуем...
Я иду в подвал.
У будки уже другой часовой — маленький, в волочащейся по земле плащ-палатке. Его я не знаю.
Бранятся в телефон связисты:
— Мрамор! Я — Гранит. Как слышишь? Мрамор, Мрамор! Сукин сын, опять прикуривать пошел. Мрамор, Мрамор, ядри твою бабушку...
Желтеет солома в углу. Валега, конечно, позаботился. Завалюсь сейчас. Два часа, целых два часа буду спать. Как убитый.
— В два разбудишь, Валега. В четверть третьего. Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнущий потом живот, я уже сплю.
Часть вторая (опубликована в журнале "Знамя" 1946, № 10)
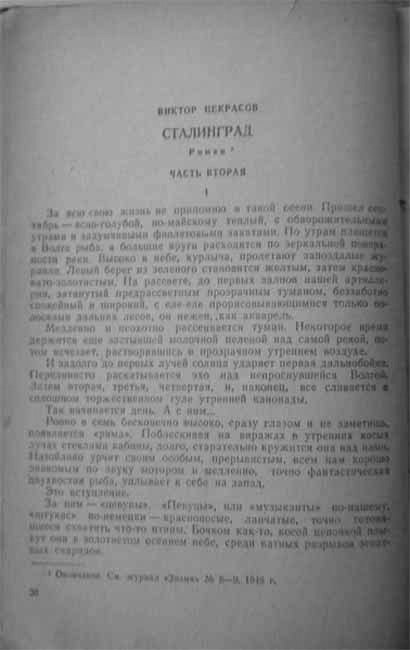 Первая страница части второй романа "Сталинград"
Первая страница части второй романа "Сталинград"
1
За всю свою жизнь не припомню я такой осени. Прошел сентябрь — ясно-голубой, по-майскому теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми фиолетовыми закатами. По утрам плещется в Волге рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе, курлыча, пролетают запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов артиллерии, затянутый предрассветным проз- рачным туманом, беззаботно спокойный и широкий, с еле-еле прорисовывающимися только полосками дальних лесов, он нежен, как акварель.
Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время держится еще застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе.
И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой. Затем вторая, третья, четвертая, и, наконец, все сливается в сплошном, торжественном гуле утренней канонады.
Так начинается день. А с ним...
Ровно в семь, бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется "рама". Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго, старательно кружит она над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым по звуку мотором и медленно, точно фантастическая двухвостая рыба, уплывает к себе на запад.
Это вступление.
За ним — "певуны". "Певуны", или "музыканты" — по-нашему, "штукас" — по—немецки, красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. Бочком как-то, косой цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе среди ватных разрывов зенитных снарядов.
Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезаем мы из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определит весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня земля будет дрожать, как студень, где солнца не будет видно из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут хоронить убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки взамен исчезнувших, стертых с лица земли.
Когда цепочка проплывает над нашей головой, мы облегченно вздыхаем, скидываем рубашки и поливаем друг другу воду на руки из котелков.
Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, мы забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы — господи боже мой, до вечера еще целых четырнадцать часов! — и, скосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из "певунов" тащит у себя под брюхом от одиннадцати до восемнадцати штук, что сбросят их не все сразу, сделают еще два или три захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один, а может, даже и не сбросит, а только кулаком помашет.
И так будет длиться целый день, пока солнце не скроется за Мамаевым курганом. Или нас, или соседей. Если не соседей, так нас. Если не бомбят, так лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят.
Время от времени прилетают тяжелые "юнкерсы" и "хейнкели". Их отличают по крыльям и моторам. У "хейнкелей" крылья закругляющиеся, у "юнкерсов" — обрубленные и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок.
Плывут высоко, углом вперед, и бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво, вразнобой, не снисходя до пикировки. Поэтому мы их не любим — эти тяжелые "юнкерсы": никогда не знаешь, куда уронят бомбы. И залетают всегда со стороны солнца, чтоб глаза слепить.
Целый день звенят в воздухе "мессеры", парочками рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки, по две из-под каждого крыла, или длинные, похожие на сигару, ящики с трещотками, противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувыркается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье — две половинки, совсем как корыто.
По утрам, с первыми лучами солнца, неистово гудя, проносятся над головами наши "илюши" — штурмовики, и почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. "Мессеры" долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко, за Ахтубой, чернеет печальный черный гриб горящего самолета.
Задравши до боли в позвоночнике головы, мы следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы — маленькие черненькие самолеты вертятся как сумасшедшие высоко в поднебесье — иди разбери. Один Валега никогда не ошибается, глаз у него острый, охотничий — на любой высоте "миг" от "мессера" отличит.
А дни стоят один другого лучше, голубые, безоблачные, самые что ни на есть летные. Хоть бы туча появилась, хоть бы дождь когда-нибудь пошел. Мы ненавидим эти солнечные, ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух. Мы мечтаем о слякоти, тучах, дожде, об осеннем хмуром небе. Но за весь сентябрь и октябрь мы только один раз видали тучу. О ней много говорили, подняв кверху обслюненный палец, гадали, куда она пойдет, но она, проклятая, прошла стороной, и следующий день по-прежнему был ясный, солнечный, жужжащий самолетами.
Один только раз, в начале октября, немцы дали нам отдых — два дня: материальную часть, должно быть, чистили. Кроме "мессеров", самолетов не было. В эти два дня купали в корытах бойцов и меняли белье. Потом опять началось.
Немцы рвутся к Волге. Пьяные, осатанелые, в пилотках набекрень, с засученными рукавами. Говорят, перед нами эсэсовцы — не то "Викинг", не то "Мертвая голова", не то что-то еще более страшное. Кричат как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут.
Дважды они чуть не выгоняют нас из "Метиза", но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода, и это нас спасает.
Так длится... кто его знает сколько... пять, шесть, семь, а может быть, и восемь дней.
И вдруг — стоп.. Тишина. Перекинулись правее — на "Красный Октябрь". Долбят его с воздуха и с земли. А мы смотрим, высунув головы из щелей. Только щепки летят. А щепки — это десятитонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы. Третий день не проходит оранжево-золотистое облако пыли над заводом. Когда дует северный ветер, все это облако наваливается на нас, и тогда мы выгоняем всех бойцов из землянок, так как немецкой передовой не видно, а они, сукины сыны, могут ударить под шумок.
Но в общем спокойно, только минометы работают да наша артиллерия с того берега. И мы сидим у своих землянок, курим, ругаем немцев, войну, авиацию и тех, кто ее придумал. "Посадил бы я этих изобретателей Райтов в соседнюю щель — интересно, что бы запели". Потом гадаем, когда же свалится последняя труба на "Красном Октябре". Позавчера их было шесть, вчера три, сегодня осталась одна — продырявленная, с отбитой верхушкой. Стоит себе и не падает назло всем...
Так проходит сентябрь.
Идет октябрь.
2
Меня вызывают из "Мрамора" по телефону к "тридцать первому" — командиру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во время высадки ему помяло пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал.
Я знаю только, что у него густой, низкий голос и немцев он почему—то называет турками. "Держись, Керженцев, держись,— гудит он в телефон,— не давай туркам завод, понатужься, но не давай". И я тужусь изо всех сил и держу, держу, держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь,— с каждым днем людей становится все меньше и меньше.
Но сейчас это позади. Третий день отдыхаем. Даже сапоги снимаем на ночь. Надолго ли только?
Впрочем, чего гадать! Захватив Валегу, иду на берег.
Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром землянке. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно-отеческого вида. В одном сапоге и калоше на другой ноге, пьет чай с хлебом и чесноком. Покряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им, и теребят, и заставляют раскачивать себя на коленях.
Майор внимательно слушает меня, шумно отхлебывая чай из большой раскрашенной кружки. Здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул. Протягивает большую мягкую руку.
— Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой; косая сажень.— Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке.— Чаю хочешь?
Я соглашаюсь, давно не пил настоящего чая.
Ординарец приносит чайник и чашку, такую же большую и пеструю. Складным ножом отрезает ломтик лимона. У меня даже слюнки текут. Майор подмигивает маленьким, глубоко сидящим глазом:
— Видишь, как живем. Не то что вы на передовой. Лимончиком встречаем.
Некоторое время мы молча пьем чай, похрустывая сахаром. Потом майор переворачивает кружку кверху дном, кладет на нее крохотный оставшийся кусочек сахару и, отодвинув в сторону, аккуратно сметает со стола крошки.
— Ну, так как же у тебя там? А, комбат?
— Да ничего, товарищ майор, держимся пока.
— Пока?
— Пока.
— И долго, ты думаешь, это "пока" протянется?
В голосе его появляется какая-то другая интонация, не совсем уже отеческая.
— Пока люди и боеприпасы есть, думаю, будем держаться.
— Думаю, пока... Это нехорошие слова. Не военные. Про птицу знаешь, которая думала много?
— Про индюка, что ли?
— Вот именно, про индюка.— Он смеется уголком глаза.— Куришь? Кури. Хороший. "Гвардейский", что ли, называется.
Он пододвигает лежащую на столе пачку и рассматривает рисунок. Под красной косой надписью бегут красные солдаты в касках, за ними красные танки, а над головой красные самолеты.
— Так, что ли, в атаку ходите? А?
— А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор.
Майор улыбается, потом лицо его становится вдруг серьезным и мягкие, немного вялые губы — жесткими и резкими.
— Штыков сколько у тебя?
— Тридцать шесть.
— Это активных?
— Да, активных. Кроме того, связисты, связные, хозвзвод на берегу, человек шесть на том берегу с лошадьми. Всего с полсотни наберется. Ну, еще минометчики. Человек семьдесят всего будет.
— Тридцать шесть и семьдесят. Ловко получается. Половинка на половинку. Нехорошо.
— Нехорошо,— соглашаюсь.— Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадей медсанбату подкинуть, да ваш помощник не разрешил — за сеном, говорит, ехать должны.
Майор грызет кончик трубки. Трубка у него большая, изогнутая, вся изгрызенная.
— Инженер по образованию? Да?
— Архитектор.
— Архитектор... Дворцы, значит, разные, музеи, театры... Так, что ли?
— Так.
— Вот и мне дворец построишь... Сапер наш — Лисагор... Ты его еще не знаешь? Познакомлю. Один дворец построил уже было, да Чуйков, командующий, занял. Вот и живу в этой дыре, после каждой бомбы землю из-за шиворота выколупываю.— Майор опять улыбается, собрав морщины вокруг глаз.— Ну, а мины и тому подобные спирали Бруно знаешь, конечно?
— Знаю.
— Этим и будем сейчас заниматься. Придут комбаты, поговорим. А пока кури.— Он щелчком подталкивает мне пачку.— Комбата на твое место уже запросил, да вот не шлют, сукины сыны. А без инженера как без рук. Лисагор — парень ничего, да в чертежах и схемах — ни бе ни ме... Бывает такое.
Где-то рвутся бомбы. Звука не слышно, только в ушах что—то неприятное давит, и пламя в лампе тревожно мигает.
Потом приходят комбаты и другие командиры.
Совещание длится недолго, минут двадцать, не больше. Бородин говорит. Мы слушаем, смотрим на карту.
Оказывается, участок нашей дивизии самый глубокий — километра полтора в глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль самого берега — 13-я гвардейская, Родимцевская. Тянется почти до самого города, до пристаней, тоненькой, не шире двухсот метров, извилистой ленточкой. Правее, на "Красном Октябре",— 39-я гвардейская и 45-я. Это им, значит, сейчас достается. Красная линия фронта проходит как раз по белому на карте пятну завода. Правее еще две—три дивизии, и конец. Это все. Все, что осталось на этом берегу. Пять или шесть километров на полтора. И полтора — это еще в самом широком месте. В центре города — немцы. Тракторного на карте нет, но где-то там, говорят, еще одна наша дивизия прилепилась. Гороховская, кажется.
Ночью сегодня должна переправиться 92—я бригада.
Она уже дралась в Сталинграде. Сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо.
Но с "Метизом" мне придется распрощаться. Там будет 3-й батальон. Мне попадается участок между "Метизом" и восточным концом извилистого, как буква 8, оврага, на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь.
Да, повезло Кандиди, командиру 1-го батальона. На готовенькое садится. А мне... Кто его знает, где и КП себе выбрать. Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет.
Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо. Не выпускает трубки изо рта. Водит большим пальцем с коротко обстриженным ногтем по карте.
— Задача простая — врыться, спутаться проволокой, обложиться минами и держаться. Месяц, два, три, пока не скажут, что дальше делать. Понятно? Мамаев занять полностью мы не в силах. Но то, что есть, отдавать нельзя.
Майор отрывается от карты и устремляет на меня свои маленькие, глубоко запавшие глаза.
— У тебя труднее всего, Керженцев. Основание выступа в твоих руках. Другая сторона — у сорок пятого полка. В этих двух местах немцы и будут рваться отрезать наш первый батальон. И два батальона сорок пятого заодно. Они тоже на Мамаевом. А людей больше не будет. Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение — только заплаты. Да и что это за пополнение — мальчишки.
Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол.
— У тебя стариков сколько осталось, Керженцев?
— Человек пятнадцать, не больше. Из них человек десять матросов.
— Неплохо еще. У Синицына и Кандиди и того нет. А это ваш костяк. Учтите. Зря не гробьте. Лопаты есть?
С лопатами дело дрянь. Уезжая с формировки, дивизия не успела получить инженерное имущество. А то, что по пути в селах взяли, ржавое, негодное, в первые же два дня поломалось. Кирко-мотыг совсем нет. Со дня на день ждем инженерную летучку-склад, но она застряла где-то на том берегу, и мы ковыряемся найденным среди развалин старьем.
— Обещают сегодня мины подкинуть, товарищ майор,— подымается из угла небритый лейтенант в расстегнутой телогрейке.— Я вчера с начальником армейского склада говорил. С тысячу противопехотных нам дадут. А противотанковые не раньше чем через неделю.
Майор машет на него рукой,— знаю, мол, садись.
— Нажимайте на окопы сейчас. Пока нет саперных лопат, выкручивайтесь пехотинскими, ничего не поделаешь. У тебя, Синицын, больше, чем у остальных, я помню, и участок полегче. Отдашь половину Керженцеву. Все. Да, Лисагор.— Лейтенант в телогрейке вытягивается.— Сегодня к вечеру план оборонительных работ чтоб у меня был. А ты, Керженцев, поможешь. Через пару деньков с тебя требовать буду.
И он встает, показывая этим, что толочься нам больше здесь незачем — и так накурили, не продохнешь.
3
На берегу Лисагор подходит ко мне. — Разрешите представиться,— лейтенант Лисагор, командир саперного взвода Тысяча сто сорок седьмого стрелкового полка Сто восемьдесят четвертой стрелковой дивизии.
Голос звучный, привычный к рапортам. Приветствие по всем правилам — пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию, сильный рывок вниз. Лицо несколько потрепанное, небритое. Глаза умные, с хитрецой. Сам коренастый, крепкий. На вид — лет тридцать.
— Строительством моим интересуетесь? Метрострой настоящий. Пятый день долбаем.
И берет меня за локоть.
Шагах в двадцати от землянки майора саперы роют туннель в крутом волжском обрыве — длинный, метров в десять, никак не меньше. В виде буквы Т.
— Справа для майора, слева для начштаба,— объясняет Лисагор.— Три на четыре, представляете? А там, левее, еще один — для опергруппы и комиссара. А людей всего восемнадцать. Вместе с сержантами. И чтоб к послезавтрашнему дню готово было. Ловко?
Бойцы долбят кирками твердый, как камень, грунт. Двое долбят, двое выносят землю ведрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка. Пахнет копотью, потом и сырой землей.
Лисагор садится на корточки, прислоняется спиной к деревянному креплению. Закуривает.
— Одну такую же выкопали. Досками обшили. Пол, потолок. Фанерой стенки. Печурку в углу поставили. Вот этот вот усач, помкомвзвода мой, все своими руками сделал — печь, трубы. На все руки мастер. Лампу двухлитровую с зеленым абажуром достали. Майор уже кровать намечал где ставить. А Чуйков пришел, сел на стул, спросил, сколько земли над головой, а ее метров двенадцать, и пришлось нашему майору распрощаться с квартиркой, а саперщикам все сначала начинать. Вот оно как на войне, товарищ лейтенант. А людей — кот наплакал.
— А я вот тоже хотел у тебя попросить. Человек этак пять.
Лисагор настораживается.
— Зачем?
— Слыхал, что майор говорил давеча насчет мин?
— Это пускай дивизионные делают. На что они и существуют. А наше дело КП, НП. Их сто, а нас восемнадцать. И так по целым суткам не спят. Да и мины эти, знаешь, когда будут...
— Ты сам говорил, что тысячу предлагали.
— Говорил, говорил... Чего только не наговоришь. На то он и начальник склада, чтоб врать. Не знаешь, что ли, их.
— Ладно. Не будем спорить. Организуй мне на завтрашнюю ночь пять человек, хоть своих, хоть чужих, остальное меня не интересует.
Лисагор сопит, ковыряет финкой землю между ног.
— Вот всегда так — организуй, сделай, завтра к утру, сегодня к вечеру... А кем и как — никто не спрашивает. За ночь я батальона не рожу. Видишь, спины какие у людей, хоть выжимай.
Я встаю.
— Ну, что ж, придется майору доложить — саперы на блиндажах заняты, оборону укреплять некем.
Лисагор тоже встает.
— Вот упорный какой... Ладно, не ходи. Пришлю людей. Да делать-то им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать.
— Траншеи — траншеями, а мины — минами. Завтра вечером пришлю людей.
— За чем? За минами?
— Ну, а то за чем.
Лисагор ничего не отвечает. Согнувшись, вылезает из туннеля.
— Пошли на воздух, пока тихо.
Солнце слепит глаза. На берегу точно муравейник. Что-то копают, тащат, строят. Дымят прилепившиеся к обрыву кухни. Сохнет белье — рубашки какие-то, кальсоны. Сияют медные горы снарядов — маленьких, средних, больших, с красными, синими, желтыми головками. Ящики с патронами. Мешки. Опять ящики. Исковерканная пушка без ствола. Распухшая лошадиная туша, облепленная мухами. Задние ноги уже отрезаны.
Левее — полузатонувшая баржа. Одни ребра торчат. Обшивка на костры пошла. И на них, на этих ребрах, как куры на насесте, четверо бойцов рубахи стирают. Весело смеются, брызгаются, сверкая спинами.
А небо голубое, ослепительное, без единого облачка. И белоснежная церквушка с зеленым остроконечным куполом выглядывает из золотеющего осинника на том берегу. Там тоже много людей. Копошатся и ползают по совсем белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются белоснежные букеты минных разрывов. Потом доносится звук. Люди разбегаются. Переждав несколько минут, опять сползаются, опять копошатся. Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. Течение сильное, и ее сносит вправо. Быстро, быстро мелькают весла.
— Сейчас стрелять начнут,— говорит Лисагор и вынимает из кармана коробку из—под зубного порошка. Скручивает цигарку.
Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый, точно гейзер, фонтан воды.
— Вот чудаки, напрямик прут,— говорит Лисагор, аккуратно зализывая цигарку и всыпая в нее рассыпавшуюся на ладони махорку.— Только вымотаются и немцам работу облегчат. Плыли б по течению, прицел пришлось бы все время менять.
— По течению плыть — к фрицам попадешь,— говорит кто-то за моей спиной. Саперы, облокотившись на лопаты, тоже следят за лодкой.
Фонтанов становится все больше и больше. Лодка неистово машет веслами.
— Плохой минометчик,— авторитетно заявляет тощий узкогрудый боец, стоящий рядом.— Вчера с третьего раза в щепки разнес.
— Вчера и лодка в пять раз больше была,— отвечает кто-то другой хриплым, медленным басом,— и грузу гора, еле двигалась.
Одна мина разрывается почти у самой лодки. Лодка только прыгает на волнах, и на несколько секунд прекращается махание весел. Гребцы пригнулись, должно быть.
— А это не наша? А? Не коробковская? Часа два назад поехали.
— Может, и наша, разве разберешь. В ней тоже четыре весла.
— Коробковская давно уже на берегу сохнет. И у Коробкова не шлюпка, а плоскодонка. Моряки из вас.
— Сейчас пулемет начнет,— спокойно говорит Лисагор, затягиваясь цигаркой и пуская кольца.— Как пить дать застрочит.
И почти сразу же вокруг лодки появляется целая серия маленьких, иногда сливающихся фонтанчиков.
Все вокруг умолкают. Лодка перестает махать веслами. — Вот сволочи...— вырывается у кого-то за моей спиной,— доконают—таки...
На берегу и вокруг нас почти все следят за лодкой. Весла опять начинают мелькать. Но не четыре, а два. По-видимому, одного ранило или убило.
Шлюпка достигла уже середины реки. Сейчас она как раз против нас. Опять начинает миномет.
— Метров пятьдесят осталось, а там уже не видно с Мамаева будет.
— Ну, нажимай, нажимай, хлопцы!
Густота разрывов достигает своего предела. Просто непонятно, как лодка еще цела. Правда, ее сильно несет, и фонтаны все время отстают.
Кто—то на самом берегу орет во все горло:
— Давай, давай, давай!..
И машет пилоткой над головой.
И вдруг, точно по команде, фонтаны исчезают. Две или три мины хлопают еще по воде, но лодка уже далеко от них. Бойцы расходятся, добродушно и довольно ругаясь.
Лисагор швыряет окурок.
— Вот так вот и доставляют нам еду и боеприпасы. Видал? А вы там на передовой — давай, давай патроны...
На весь правый берег, оказывается, работает только одна переправа, 62—я — два катера с баржами. За ночь успевают максимум по шесть ходок сделать, от силы — семь, а что это для восьми или десяти дивизий, сидящих на этом берегу,— капля в море. Приходится собственными средствами доставлять.
— В нашем полку целая флотилия есть,— говорит Лисагор,— пять шлюпок, три плоскодонки и понтон. Было штук пятнадцать, да повыходили из строя. Старье. Текут. И осколками сечет. Понтон совсем как решето. Трое моих все время сидят, конопатят.— Он искоса поглядывает на меня.— А ты говоришь, мины ставить. Сегодня ночью еще людей в сорок пятый посылать надо. Вчера у нас две шлюпки сперли. Эх! И надоело же все это... Пойдем, что ли, ко мне...
Мы на четвереньках забираемся в крохотную, как собачья конура, Лисагорову землянку.
— Видишь, как живем. Сапожник — без сапог. Сам рыл.
Косой луч солнца узенькой стрелкой вонзается в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки и прикнопленную к стенке фотографию полной девицы в берете.
Откуда—то из-под прибитого к стенке столика, вроде вагонного, появляется четвертушка водки.
— Что ж, чокнемся по случаю знакомства,— подмигивает Лисагор.
Мы чокаемся кружкой о бутылку. Лисагор прямо из горлышка хлещет.
— А мы на передовой только один раз водку получали,— говорю я.
Лисагор ухмыляется и ладонью трет небритый подбородок.
— До передовой полтора километра, у меня склад под боком. Да и бойцов у меня человек пять непьющих. Вообще рассчитывайся ты скорей со своим батальоном и принимайся за инженерство. Увидишь, как заживем. Со мной не пропадешь. Майора нашего я как облупленного знаю. С полслова понимаю. Мировой старик. Вспыльчивый иногда, правда, но через полчаса отходит. Землянки только хорошие любит — есть такой грех. Чуть ли не ковры ему клади. А так — жить можно. Еще будешь?
Он достает еще одну четвертушку.
— Вот закончу эти два туннеля и собственный начну делать. Куда это годится. Люди прямо на берегу спят, а через месяц — зима. К твоему приходу увидишь, какие хоромы будут. Пальчики оближешь..
Я смотрю на ходики, висящие на стенке, с замком вместо гири.
— Правильные?
— Правильные. Да ты не торопись, товарищ лейтенант. Успеешь еще насладиться передовой.— Он похлопывает меня по колену.— Ты не обижаешься, что я с тобой на "ты"? Фронтовая привычка. Я даже с Абросимовым на "ты", а он капитан. Между прочим,— Лисагор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо,— опасный парень. Людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле — кипяток. Совсем голову теряет. Бурлит и сплеча рубит. Но ты не поддавайся. Умей держать себя.
Откинувшись назад, он вытягивает ноги. Хрустит пальцами. По очереди каждым. Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает без запинки. Смеется. Два передних зуба у него выщерблены.
— Проверяешь? Да? Ну, на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Халхин-Гол, Финляндия... Эх, лейтенант, лейтенант, не знаешь ты еще меня. Ей-богу, переходи скорей на берег. Увидишь, как со мной жить. Апельсин хочешь? У меня целый ящик. И печенье есть... Все, что хочешь, есть.
Я перебиваю его:
— Сколько, ты говоришь, у тебя человек во взводе?
— У меня? Восемнадцать, я девятнадцатый. Молодец к молодцу. Плотники, столяры, печники. Даже портной и парикмахер. А сапожник — в Москве такого не сыщешь. Вот сапоги на мне, что скажешь? Каблучок, носок, подъемчик... загляденье. И часовщик есть. Вот тот, с усами, сержант. И краснодеревщик.
— А с минным делом как они?
— И с минным, конечно, как ты думаешь! Но вообще это не наше дело. НП, КП — наше, а мины хай батальон ставит. А взвод — дай бог. Не жалуюсь. Поработаешь, увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не сыщешь. Честное слово...
Я встаю.
— Людей твоих, значит, завтра жду.
Лисагор тоже встает, слегка покачиваясь.
— Ну и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе эти минные поля. Свои только подрываться будут. Ну, да ладно уж, пришлю.
— Неплохо было бы, если бы и сам заглянул.
— Это не обещаю. Не обещаю. Сам видишь, сколько работы. Туннели, лодки... Мины вот еще сегодня получать надо. Я помкомвзвода пошлю, Гаркушу — мировой парень. С закрытыми глазами мины тебе натычет.
— Мне-то не надо, а вот первый и третий батальоны совсем без саперов...
Придерживаясь рукой за столик, Лисагор несколько секунд смотрит на меня уже слегка осоловевшими глазами.
— Знаешь, что я тебе скажу, товарищ лейтенант, головы у комбатов есть, пускай и думают ими. А мое дело маленькое — приказания выполнять. Тоже дети маленькие. Лягут в оборону — сапер минируй! В наступление — сапер разминируй! В разведку — сапер вперед, мины ищи! А ну их к черту...
— Как знаешь. Ты пока инженер. Сам решай, как лучше. Будь здоров.
— Бувай... Возьми на дорогу пару витаминчиков.
Он сует мне в карман телогрейки два холодных, шершавых, ослепительно ярких апельсина.
— Жду, значит, на днях.
И смеется мелким, рассыпчатым смехом.
4
Ночью меняем позиции. Я тороплюсь закончить все до двенадцати, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая — весь мой участок освещен, как днем. Это затягивает переход на всю ночь. Пулемет из-под моста стреляет почти без передышки. Чувствую, что много хлопот будет с этим пулеметом, он пересекает все мои коммуникации. К утру там появляется еще пушка. А отвечать мне нечем, патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь ротными минометами. У восьмидесяти двух нет мин. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии. Но и у них с боеприпасами туго — раза три только за ночь стреляют.
Участок отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной насыпью. Она извивается вдоль подножья кургана. Заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого, только верхняя часть оврага. Окопов, траншей — никаких. Уступающие нам место бойцы 1-го батальона ютятся по каким-то ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом. Вдоль оврага, по ту сторону насыпи, кое-какое подобие окопов все—таки есть, правда без малейших признаков соединительных ходов.
Да, это не "Метиз". Там с одного конца до другого почти не согнувшись пройти можно.
Участок сам по себе не велик для нормального батальона, каких-нибудь шестьсот метров, но у меня всего тридцать шесть человек. Было четыреста, а стало тридцать шесть. И насыпь эта, проклятая, разрезает участок на две неравные части — правый фланг на кургане раза в два длиннее левого. А у меня две роты по восемнадцать человек, фактически два отделения. Плюс два командира роты и три командира взвода. Пулеметчики и минометчики не в счет. Вот и управляй ими всеми без ходов сообщения. Днем каждый боец превращается в отдельную, отрезанную от всех огневую точку. Участок вдоль и поперек простреливается немцами.
Ищу себе КП, хотя бы временное, чтобы установить телефон. Сплошные развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валега. Находит трубу под насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то артиллеристы.
Долговязый лейтенант, с маленькой, торчащей во все стороны отдельными волосиками бородкой, встречает меня в штыки.
— Не пущу — и все. Нас и так тут пять человек. А ты еще целый штаб тащишь.
Но я не расположен к дипломатическим переговорам. Приказываю ставить телефон, адъютанту старшему писать донесение. Артиллеристы ругаются, не хотят сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому, начальнику артиллерии.
— Ну и жалуйся! Располагайся, хлопцы, и всё... Ни с места, пока не скажу.
Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои "незабудки" и "тюльпаны".
Харламов, адъютант старший, близорукий, потерял, конечно, самую нужную папку и всем мешает, роясь под ногами.
— Должно быть, там забыл, на старом КП,— бормочет он себе под нос, растерянно оглядываясь по сторонам.
Удивительная черта у этого человека — всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уж нечего.
Часам к пяти приходят командиры рот.
— Ну как? — спрашиваю.
Карнаухов, командир четвертой роты вместо убитого Петрова, пожимает своими широченными плечами.
— Растыкал пока. Пулеметы еще ничего, а бойцы... Придется день пересидеть как-нибудь, светает уже, а ночью за лопаты браться. В таких окопах долго не продержишься.
У Карнаухова низкий, слегка глуховатый голос. Говорит, немного запинаясь. Может быть, просто слова подбирая. А в общем, мне он нравится.
Пришел он к нам дней десять тому назад. Большой, косолапый, с густыми, сросшимися на переносице бровями, сероглазый, с мешком за плечами. Согнувшись, протиснулся в узенькую, низкую дверь.
Мы как раз обедали. Суп из сушеной картошки и сухари. Он отказался и попросил воды. Выпил с аппетитом большую, чуть ли не с ведро, кружку, вытер губы, улыбнулся.
— Весь ваш запас, должно быть, выдул.
И спросил, где его рота находится.
— Да вы посидите, очухайтесь сперва.
Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью намокший, с красной полоской от фуражки лоб.
— Целый месяц в госпитале очухивался. Три кило даже прибавил. Табаку вот на дорогу не дали. А без табаку, сами знаете, как...
Харламов дал ему закурить. Он скрутил цигарку совершенно невероятных размеров и стал молча курить.
Я задал несколько обычных при первом знакомстве вопросов. Он спокойно, немногословно ответил, присев в углу на собственный мешок. Потом встал, поискал глазами, куда бросить окурок, и, так и не найдя подходящей пепельницы, выбросил его за дверь.
— Ну? Кто меня поведет?
Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемой расположения огневых средств противника.
На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншей, потеряв при этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не по-фронтовому чистенький, с зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то на положенной на колени тетрадке.
— Письмо на родину, что ли?
— Нет. Так... Чепуха...— смутился и попытался встать, нагнув голову. Тетрадку он торопливо сунул в карман.
"Должно быть, стихи",— подумал я и больше не спрашивал.
В эту же ночь его рота выкрала у немцев пулемет и шесть ящиков с патронами. Бойцы говорили, что он сам за пулеметом ходил, но когда я его спросил, он только улыбнулся и, не глядя в глаза, сказал, что все это выдумки, что он никогда не позволит себе этого и что вообще командир роты за пулеметами не ходит.
Сейчас он стоит передо мной, слегка ссутулившийся, небритый. Я знаю, что ему, так же как и мне, больше всего хочется спать. Но он еще будет, высунув кончик языка, рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли старшины ужин.
Фарбер, комроты пять, сидит на кончике ящика из-под-патронов — усталый, как всегда рассеянно-безразличный. Смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза от бессонницы опухли. Щеки, и без того худые, еще больше ввалились.
Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Долговязый, сутуловатый, правое плечо выше левого, болезненно бледный, как большинство рыжих людей, и страшно близорукий, он почти ни с кем не разговаривает. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета. Узнал я об этом из анкеты, сам он никогда не говорил.
Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем, старался расшевелить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он рассеянно слушает, иногда односложно отвечает, но дальше этого не идет. Все как-то проходит мимо, обтекает его, не за что зацепиться. Я ни разу не видел его улыбающимся, я даже не знаю, какие у него зубы.
Чувство любопытства, так же как и чувство страха, у него просто атрофировано. Как-то, на "Метизе" еще, я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой, до колен, солдатской шинели спиной к противнику и рассеянно ковырял носком ботинка осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули цвякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю.
— Вы что здесь делаете, Фарбер?
Он медленно, точно нехотя, повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припухшими веками вопросительно остановились на мне.
— Так просто... Ничего...
— Ведь вас тут немцы в два счета ухлопают.
— Пожалуй...— спокойно согласился он и присел на корточки.
Трудно его назвать неаккуратным, он всегда выбрит, и подворотничок у него всегда свежий, но это, по-видимому, привычка или воспитание, внешности же своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше, хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет.
Я сказал ему как-то:
— Вы бы пришили себе кубики, Фарбер.
Он, как всегда, удивленно посмотрел на меня.
— Для большего авторитета, что ли?
— Просто положено в армии носить знаки различия.
Он молча встал и ушел.
На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых куби— ка, пришитых вкривь и вкось белыми нитками.
— Плохой у вас связной, Фарбер. С кубиками определенно не справился.
— У меня нет связного. Я сам пришивал.
— А почему нет связного?
— В роте восемнадцать человек, а не сто пятьдесят.
— Ну вот, один пускай и будет по совместительству вашим связным.
— Излишняя роскошь, пожалуй.
— Не излишняя и не роскошь. Вы — командир роты.
Он ничего не возразил, он вообще никогда не возражает и не возмущается, но связного, по-моему, у него до сих пор нет.
Странный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянуто, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание и будь здоров — выполняй. Он молча, рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет "постараюсь" и уйдет.
Сейчас он сидит, безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными, костистыми руками, барабанит пальцами по столу.
— Помните, Фарбер,— говорю я ему,— участок у вас неважный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни, никакого толку.
Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно, монотонно.
На дворе, сквозь щели видно, совсем уже рассвело. Я отпускаю командиров рот. Звоню в штаб, что передислокация окончена и приемо-сдаточные документы посылаю со связным.
Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивают на другом конце трубы какие—то свои координаты по телефону. По-видимому, скоро заговорят наши пушки.
5
Утром мы все ожидаем атаки, немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий, день оказывается настолько тихим, что даже обед удается притащить с берега днем.
После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и артналетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха. Но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В семь, как всегда,— "рама". Вереницы "певунов" над "Красным Октябрем"...
Валега приволакивает с Волги два ведра воды, разогревает их на примусе, потом скребет мне спину рогожей. Вода с меня черная, как чернила. А сам я красный, и все тело чешется. Валега смеется.
— Я вам сейчас немецкое белье дам. Шелковое. Ни за что вошь не заведется. Скользит — не держится.
Я натягиваю тонкие лазоревые кальсоны и рубаху, бреюсь и иду к Карнаухову. Сидя на корточках и скосив глаза в крохотный осколок зеркала, приткнутый к полуразрушенной стенке, он скребет подбородок.
— Ну, как жизнь?
Карнаухов улыбается сквозь пену, встает.
— Так и до конца войны жить можно... Забастовал что-то фриц.
Я присаживаюсь рядом.
Кругом одни трубы. Домов нет. Черные, дымящиеся еще кое-где балки и трубы, трубы, зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты, небе. Почему—то трубы всегда сохраняются. Будто нарочно их кто-то оставляет, чтобы напомнить, что был здесь когда-то дом, поселок, город, а сейчас вот что осталось.
Я сижу на столбе. По—видимому, это когда-то были ворота. Еще фонарь с номером сохранился. Треугольный синий фонарь и надпись — "2 Косой пер., № 24. Дом принадлежит Агарковой И. Н.". На куске стены, неизвестно почему сохранившейся, вывеска: "Мужский и дамский портной Авербух. Прием заказов". Розовощекий субъект в глаженых брюках и котелке сосредоточенно-равнодушно смотрит с высоты на меня, точно гипнотизирует. У них всегда такой взгляд, у этих вывесочных красавцев, куда бы вы ни шли, они все время на вас смотрят.
— А у вас тут спокойно,— говорю я.
— Это сейчас только. А вообще не очень. Я побриться только выскочил, в норе повернуться негде, весь изрежешься.
Мучительно сморщившись, Карнаухов добривает верхнюю губу. Я подчищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист с привязанной к голове телефонной трубкой. Еще двое бойцов. Чадит лампа, сплющенная из артиллерийской гильзы. На стенке — календарь с зачеркнутыми днями, список позывных, вырезанный из газеты портрет Сталина и еще кого-то — молодого, кудрявого, с открытым, симпатичным лицом.
— Это кто?
Карнаухов, перехватив мой взгляд, конфузится:
— Джек Лондон.
— Джек Лондон?
Карнаухов стоит против света, я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что он покраснел.
— Почему вдруг Джек Лондон?
— Да так... Уважаю его... Вот и... Молока хотите?
— Молока? Здесь? Откуда?
— Сгущенного... Американского. Ребята достали.
Я с удовольствием облизываю ложку густого, приторно-сладкого, похожего на липовый мед молока.
— А все—таки откуда у вас этот портрет?
— Откуда? — смеется Карнаухов.— Из госпиталя, конечно. Я там всю библи— отеку перечитал. А "Мартина Идена" не успел. Ну, и... взял с собой на время.
— Вы любите Джека Лондона?
— Да. Я его несколько раз перечитывал.
— Я тоже люблю.
— А его все любят. Его нельзя не любить.
— Почему?
— Настоящий он какой—то... Его даже Ленин любил. Крупская ему читала.
— Дадите мне потом почитать?
— Ладно.
— А кого вы еще любите из писателей?
Он опять смущается.
— Я мало читал. У учительницы нашей только Лондон был, не знаю, откуда она его взяла, знаете, в коричневых обложках, приложение. И еще какая-то чепуха — Мельников-Печерский и еще кто-то, не помню уже, иностранный.
— Ну, это в школе. А потом?
— Потом? Потом времени не было. Я на шахте работал. В Сучане. Знаете? Около Владивостока.
— Знаю.
— Я, пацаном когда был, в Америку совсем уже бежать собрался, золото в Клондайке искать. Стащил двустволку у отца, сухарей набрал. Даже на норвежскую шхуну забрался. Мы во Владивостоке тогда жили. Отец грузчиком в порту работал.
— Ну?
Карнаухов улыбается, разглядывая ногти.
— Как видите. За шиворот домой приволокли. Как щенка. Дней пять потом отлеживался. Ручка у бати, сами понимаете.
И он опять смеется.
Потом появляется откуда-то патефон, старенький, дребезжащий, и мы больше догадываемся, чем наслаждаемся Козловским, Давыдовой и дуэтом из "Запорожца за Дунаем". Иголка только одна, и мы попеременно точим ее о разбитую тарелку.
— Ну, вот и все, что у меня есть,— почесывая затылок, говорит Карнаухов.— Разве что передовую вам еще показать... Только к самым окопам сейчас не пройти. Придется отсюда, из развалин.
Мы устраиваемся у низенькой каменной стенки. Вероятно, здесь была квартира. Скрученная огнем железная кровать, швейная машина, мясорубка.
Впереди овраг. Он начинается чуть левее нас и тянется изгибом вверх, к самой вершине кургана. Против нас подбитая пушка. Ствол разорван, и края его, точно у какого-то фантастического цветка, завились локонами. Это придает пушке какой-то удивленный, недоумевающий вид. Рядом разбитый в щепки передок.
На противоположной стороне оврага — немецкие окопы. Совсем рядом, рукой подать.
— А наших не видно,— шепчет Карнаухов,— склон мешает. Метров семьдесят от противника по прямой. Видите, сволочи,— даже днем копают.
В одном месте действительно видно, как что-то рыжее вылетает из земли и иногда поблескивает лопата.
— Эх, снарядов нет. Показал бы я им, как рыть у нас под носом. А я вот попытался утром покопаться, сразу из минометов шпарить стали. И откуда у них столько боеприпасов?
Мы лежим долго, наблюдая за немцами. Пытаемся засечь их огневые точки. Они хорошо замаскированы, и мы не сразу их находим. Два или три пулемета торчат где-то на вершинке, похожей на горб верблюда, как раз против нас. Еще один прилепился повыше, в овраге, и простреливает его вдоль. А один мы так и не можем найти, хотя пули его цокают совсем рядом, около нас.
Да... Не такой представлял я себе до войны передовую. Зигзаги колючей проволоки в три-четыре ряда, бесконечная паутина траншей, маскировочные сети, амбразуры для стрельбы. А тут? Под самым носом нарыто что-то неопределенное, пушка подбитая и что-то вроде бочки из-под горючего, насквозь изрешеченной пулями.
Была у меня когда—то книга — "Герои Малахова кургана". С картинками, конечно. Четвертый бастион, какие—то там редуты, люнеты, апроши. Горы мешков с песком, плетеные, как корзины, туры, смешные на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые, блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма.
Почти девяносто лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках и обороной это называем.
Сегодня же ночью начну мины ставить. Сотни три на первых порах разбросаю. Противотанковые здесь не нужны, танк не пролезет, а вот там, за насыпью, у Фарбера...
Карнаухов лежит, насупив черные, сросшиеся, как будто случайно попавшие на сероглазое добродушное лицо его, брови.
— А все—таки хорошая у них система огня, черт возьми. Вы посмотрите только. С того верблюжьего горба весь третий батальон наш простреливают. Из-под моста — нам в спину. А сверху оврага — вдоль всей передовой...
И, точно иллюстрируя его слова, как будто сговорившись, начинают стрелять все три пулемета.
— Ох, и насолили бы мы им, забрав тот горбок. Но что сделаешь с восемнадцатью человеками.
Карнаухов прав. Будь та высотка в наших руках, мы б и третьему батальону жизнь облегчили, и мост парализовали, и имели бы фланкирующие первый батальон огневые точки.
Но как это сделать?
6
Вечером я отправляю всех не занятых на передовой за минами. Хорошо, что у меня есть повозка. В темноте на ней все-таки можно мины подвезти почти к самой насыпи. Рискуя, конечно, но все-таки можно. А оттуда на руках не так уж трудно.
Часам к десяти у меня уже около трехсот штук. Свалены возле трубы. К этому же времени приходят и саперы — четыре бойца и сержант, тот самый, с усами — Гаркуша.
Сидят в углу, грызут семечки, изредка перебрасываются словами. Вид усталый.
— Целый день кайлили в туннеле, а утром придем, опять за кирку. Ни спины, ни рук не чувствуешь.
Гаркуша протягивает руку, жесткую, заскорузлую, точно рогом покрытую сплошной мозолью.
Бойцы молча грызут семечки, сосредоточенно и серьезно, глядя немигающими глазами в одну точку.
Когда из четвертой роты сообщают, что уже штук сто мин перетащено, Гаркуша встает. Стряхивает с колен шелуху.
— Ну, что ж? Пойдем, пока луны нет. Кто нам покажет?
Цепляясь руками за кустарник и колючую, сухую траву, мы спускаемся к самой передовой. Окопы отдельными щелями по два-три метра тянутся как раз посредине ската.
Какой дурак это мог придумать? Почему не расположить их метров на двадцать позади и выше? И обстрел лучше, и сообщение легче, и немцам труднее до них добраться. А бойцы копают. В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты.
— Какого лешего вы здесь копаете, Карнаухов? Ведь здесь же как на ладони...
Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забываю даже, что здесь разговаривать можно только шепотом.
Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода Сендецкий — "Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтоб согрелись".
Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются. Все равно грош цена этим щелям. А тут двух-трех бойцов как охранение оставить.
Бойцы, кряхтя и матерясь вполголоса, ползут наверх, волоча лопаты, мешки, шинели...
— Начальнички называется...
Это по моему адресу. Но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы — доброй половины недосчитался бы...
Спускаемся еще ниже. Скат крутой, и твердая, начинающая уже подмерзать глина все время сыплется из—под ног. Саперы тащат на себе по два десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет, тот самый, что вверху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой. Разрывные.
Угодили в грязь. По—видимому, ручей — дождей давно не было. Чавкает под ногами. Взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую, холодную жижу. Уголком глаза, из-под локтя слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой.
— Ну, где будем?
Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света кругом ничего не видно. Даже лица не видно. Только теплое, пахнущее семечками дыхание.
— Как вспыхнет ракета, смотри налево...— От напряжения голос у меня слегка дрожит.— Увидишь бочку железную. Начнешь от нее... И вправо метров на пятьдесят... В три ряда... В шахматном... Как говорили.
Слова вылезают с трудом, и каждое из них приходится чуть ли не силой выталкивать.
Гаркуша ничего не отвечает. Отползает в сторону. Я это только слышу, но не вижу. Через минуту опять чувствую на своем лице его дыхание.
— Товарищ лейтенант...
— Что?
— Я немножко выше возьму. А то замерзнет вода, и тогда...
Опять ракета. Гаркуша наваливается прямо на меня. Вдавливаюсь лицом в землю. Стараюсь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Я подымаю голову и говорю:
— Хорошо.
За минное поле я уже спокоен.
Вытираю рукавом лицо.
Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в тридцати шагах немцы, а свои где-то там, наверху...
И каждой мине надо выкопать ямку, вложить МУВ* — трубочка такая с пружинкой, острым, как гвоздь, бойком и капсюлем,— проверить, положить в ямку, засыпать землей, замаскировать. И все время прислушивайся, не лезут ли немцы, и в грязь бултыхайся, и не шевелись при каждой ракете.
Слышно, как бойцы осторожно вываливают мины из мешков.
За час они, по-моему, управятся.
А мне сейчас же на свежую память за формуляры и отчетные карточки на минные поля браться надо. Будет у меня этой писанины каждую ночь. В трех экземплярах, да еще схему с азимутами и привязками, и бланков вдобавок нет — все сам, от руки.
Взбираюсь на гору. Два или три раза чуть не обрываюсь. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Все руки об кустарник колючий какой-то, в шипах, исколол.
Бойцы молча копают. Слышно только, как лопатой о землю ударяют. Кто—то совсем рядом со мной — в темноте ничего не видно — хрипло, вполголоса, точно упрямую лошадь, ругает твердую, как камень, землю.
— Хоть бы пару кирок на батальон дали. А то лопаты называется. Масло ими резать.
Кирки... Кирки... Где же их достать? Чего бы только я не дал за два десятка кирок! Кажется, никогда в жизни ни о чем я так не мечтал, как сейчас о них. А сколько их в Морозовской на станции валялось. Горы целые. И никто на них смотреть не хотел. Все водки и масла искали.
Так и за месяц не окопаемся.
В начале первого появляется луна. Косощекая, оранжевая, выползает откуда—то со стороны Волги. Заглядывает в овраг. Через полчаса там нельзя уже будет работать. А их всего четверо и сто мин...
А луна ползет, ползет, становится желтой, затем белой. На все ей плевать. По—моему, она даже быстрее обычного сегодня подымается, точно спешит куда-то или с выходом опоздала. И как назло, немецкая сторона в тени, а наша с каждой минутой все светлее, светлее. Последние остатки тени медленно, точно нехотя, отступая, сползают вниз, один за другим оставляя кусты, прижимаясь ко дну.
Кто-то ищет меня. Молодой, почти детский срывающийся голос. Связной Карнаухова, кажется.
— Лейтенанта, комбата, не видали?
————————————————————————————————————————
* МУВ — тип взрывателя.
— Це якого? Що з биноклем ходить? — отвечает чей-то голос откуда-то снизу, верно из щели.
— Да нет. Не с биноклем. Комбата. Командира батальона. В пилотке синей.
— А-а. В пiлотцi синiй... Ну, так би i сказав, що в пiлотцi. А то — комбат... Хiба всiх iх за день начальникiв запамьятаеш...
— Ну так где он?
— А я не бачив,— добродушно отвечает голос.— Не було його, iй-богу, не бачив.
— Фу ты, дура какая.
— Може, Фесенко бачив... Фесенко, а Фесенко...
Я направляюсь в сторону разговора. Фесенко из другой щели так же добродушно и неторопливо отвечает, что "якийсь тут був з начальникiв, на командира роти ще и кричав, що не так копаемо, але куди вiн подавсь — бiс його знае...".
— Кто меня ищет?
— Это вы, товарищ лейтенант? — вытягивается передо мной маленькая, тоненькая фигурка.
— Я... И не вытягивайся, ложись.
Садится на корточки.
— Ну, в чем дело?
— С КП вашего звонили, чтоб шли туда срочно.
— Меня? Срочно? Кто звонил?
— Я не знаю... Полковник, что ли, какой-то.
Какой полковник, откуда он взялся? Ничего не понимаю.
— И срочно, сказали, в три минуты чтобы...
Не доходя карнауховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит сломя голову. Запыхался.
— Полковник ждут вас. Командир дивизии, что ли... С орденом... И еще какие-то с ним... Харламов, младший лейтенант, чего-то путают там. А они ругаются.
Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Адъютант старший называется,— начальник штаба... На кухне ему, а не в штабе работать.
Немцы вдруг подымают стрельбу, и мы добрых пятнадцать минут лежим, уткнувшись в землю носами.
7
Полковник, невысокого роста, щупленький, точно мальчик, с ввалившимися, как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными, напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом — наш майор. Между колен — палочка. Еще двое каких-то.
Харламов — навытяжку, застегнутый и подтянутый. Впервые его таким вижу. Моргает глазами.
Прикладываю руку к козырьку. Докладываю — батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза не мигая смотрят на меня с худого лица. Сухие, тонкие пальцы слегка постукивают по столу.
Все молчат.
Я опускаю руку.
Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной.
Черные глаза становятся вдруг меньше, суживаются, и бескровные, в ниточку, губы как будто улыбаются.
— Вы что? Дрались с кем—нибудь? А?
Молчу.
— Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.
Кто-то подает толстый, облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи.
— Ну, ладно,— смеется полковник, и смех у него неожиданно веселый и молодой.— Все случается... Я однажды командующему округом в трусах докладывал, и ничего, сошло. Десять суток только получил — к пустой башке руку поднес.
Улыбка исчезает, точно ее кто-то стер с лица. Черные большие глаза опять устремляются на меня. Умные, немного усталые, с треугольными мешками.
— Ну, что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки? Если на передовой то же самое, что в бумагах творится,— не завидую тебе.
— Мало сделано, товарищ полковник.
— Мало? Почему? — Глаза не мигают.
— Людей жидковато, и с инструментом плохо.
— Сколько у тебя людей?
— Активных тридцать шесть.
— А бездельников, связных и тому подобное?
— Всего около семидесяти.
— А знаешь, сколько в сорок третьем полку? По пятнадцать-двадцать чело— век, и ничего — воюют.
— Я тоже воюю, товарищ полковник.
— Он "Метиз" держал, товарищ полковник,— вставляет майор.— Прошлой ночью мы его передвинули вправо.
— А ты не защищай, Бородин. Он сейчас не на "Метизе" сидит, и немцы его не с "Метиза" выгонять будут...— и опять ко мне: — Окопы есть?
— Копают, товарищ полковник.
— А ну, покажи.
Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми, нервными движениями застегивает пуговицы.
Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему.
— А ты не учи. Сам знаю.
Бородин, тяжело опираясь на палку, тоже приподымается.
— Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать. Пошли, комбат.
Мы — я, Валега и адъютант комдива, молодой парень с невероятно круглым и плоским лицом,— еле поспеваем за ним. Мелким, совсем не военным шагом, слегка покачиваясь, он идет быстро и уверенно, будто не раз уже ходил здесь.
У карнауховского подвала я останавливаюсь. Полковник нетерпеливо оборачивается:
— Чего стал?
— КП ротное здесь.
— Ну и пускай здесь... Где окопы?
— Дальше. Вот за теми трубами.
— Веди!
Окопы сейчас хорошо видны — и наши и немецкие. Луна светит вовсю.
— Ложись.
Ложимся. Полковник рядом. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Он ничего не говорит. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю. Молчит, изредка сдержанно, стараясь подавить, покашливает.
— А где мины ставишь?
— Вот там, левее, в овраге.
— Прекрати. Людей назад.
Я ничего не понимаю.
— Ты слышал, что я сказал? Назад людей...
Посылаю Валегу вниз. Пускай отметят колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно, на брюхе, сползает вниз.
Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет "ишак" — шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где—то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не подымает. Покашливает.
— Видишь его пулеметы? На сопке.
— Вижу.
— Нравятся они тебе?
— Нет.
— И мне тоже.
Пауза. Не понимаю, к чему он клонит.
— Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся. Но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?
— Так вот... Завтра чтоб ты был там.
— Где там?
— Там, где эти пулеметы. Ясно?
— Ясно,— отвечаю, но мне совершенно неясно, как я могу там оказаться.
Полковник легко, по-мальчишески, вскакивает, оттолкнувшись рукой от земли.
— Пошли.
Так же легко, быстро, ни за что не зацепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу "Нашу марку", по-моему, перелистывает лежащего на столе "Мартина Идена". Заглядывает в конец. Недовольно морщит брови.
— Дурак. Ей-богу, дурак. И, подняв глаза на меня:
— Твоя?
— Командира четвертой роты.
— Прочел?
— Времени нет, товарищ полковник.
— Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный был парень. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?
Бородин смущенно улыбается мясистыми, тяжелыми губами.
— Не помню... Давно читал, товарищ полковник.
— Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу. Многому нам у этого Мартина учиться надо. Упорству, настойчивости.
Захлопнув шумно книгу, переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.
— Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего ребята,— слегка поворачивает голову в сторону майора.
— Боевые, товарищ полковник.
— Ну, так вот. Пустите разведку, как только стемнеет. Затем... Луна когда встает?
— В начале первого.
— Хорошо. Часов в пол-одиннадцатого пустим "кукурузников". Чуйков обещал мне, если надо. В одиннадцать начнешь атаку. Понятно?
— Понятно.— Тон у меня не очень уверенный.
— Никаких "ура". Без единого шороха. На брюхе все. Как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня? Матросы есть еще?
— Есть. Человек десять.
— Ну, тогда возьмешь.
И тонкие бесцветные губы его опять как будто улыбаются.
Я совсем не могу понять, как я с тридцатью шестью, нет, даже не с тридцатью шестью, а максимум с двадцатью человеками смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных пулеметами и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела, надо и закрепить.
Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам, и молчу. Лучше провалиться сквозь землю, чем...
— Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин,— всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают. А потом заберешь.
Майор молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник постукивает костяшками пальцев по столу. Смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой, сухой руке. На них четверть третьего... Встает резким, коротким движением.
— Ну, комбат...— и протягивает руку.— Керженцев, кажется, твоя фамилия?
— Керженцев.
Рука у него горячая и сухая.
В дверях он поворачивается:
— А этого... как его... что утопился под конец... Мартина Идена... никому не давай... Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.
Майор выходит вслед за ним. Треплет слегка меня по плечу.
— Крутой у нас комдив. Но умница, сукин сын...— и сам улыбается не совсем удачному своему выражению.— Зайдешь утром ко мне, помозгуем.
* * *
Возвращаются саперы. Вволакивают что-то внутрь — тяжелое и неуклюжее. Гаркуша вытирает лоб, тяжело дышит.
— Бояджиева ранило,— грузно опускается на койку.— Челюсть оторвало.
Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив, на другой койке. Он, как неживой, валится на нее, обмякший, с бессильно упавшими на колени руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то красным. Гимнастерка в крови.
— Назад возвращались... Увидел... из минометов начал. Кольцова убило... Следов даже не нашли. А ему вот — челюсть.
Раненый мычит. Мотает головой. У ног его уже небольшая, круглая лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь ее мелькающие руки видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос. А внизу ничего, черное и красное. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку. И мычит, мычит, мычит...
— Лучший боец был,— устало говорит Гаркуша.
Пилотка с головы его свалилась и так и лежит на полу.— Пятьдесят штук сегодня поставил. И слова не сказал...
И, немного помолчав:
— Зря, значит, все ставили?
Я ничего не отвечаю.
Раненого уводят.
Саперы, выкурив по папиросе, тоже уходят.
Я долго не могу заснуть.
8
С утра меня все раздражает почему-то. С левой ноги, должно быть, встал. Блоха ползает в портянке, и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял: стоит передо мной, моргает черными, армянского типа глазами, разводит руками: "Положил в ящик, а теперь нету..." И тухлый пшенный суп надоел — каждый день, утром и вечером. И табак сырой, не тянется. И газет уже три дня московских нет. И людей с берега всего восемь калек дали.
Всё злит.
У Фарбера двух бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил я ему — перекрыть землянки рельсами, на "Метизе" их целый штабель лежит, а он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него и, когда молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание.
Харламова отправляю на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны. Просто чтоб не болтался перед глазами.
Валюсь на койку. Чего-то голова трещит. Связист в углу читает толстую истрепанную книгу.
— А ну, давай сюда! Нечего чтением заниматься.
Беру у него книгу. "Севастопольская страда", III том. Без начала и конца. На курево, должно быть, пошла. Раскрываю наудачу.
"...Убыль в полках была велика, пополнения же если и были, то ничтожны, так что и самые эти названия — полк, батальон, рота — потеряли свое привычное значение.
В таком, например, боевом полку, как Волынский, вместо четырех тысяч человек оставалось уже не больше тысячи; во всех полках одиннадцатой дивизии: Камчатском, Охотском, Селингинском, Якутском, так же как и в полках 16-й — Владимирском, Суздальском, Углицком, Казанском,— не насчитывалось уже больше, как по полторы тысячи в каждом..."
Полторы тысячи. Тысяча. А у нас? Если у меня в батальоне восемьдесят человек, а в полку три батальона — двести сорок. Плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики, еще человек сто. Всего триста пятьдесят. Ну, четыреста. Ну, пятьсот. А комдив говорил, в других полках еще меньше. А воюет из них сколько? Не больше трети. Что, если немцам надоест "Красный Октябрь" долбать? Если опять на нас полезут? Бросят танки на Фарбера? Там, правда, насыпь мешает. Но они свободно могут под мостом пройти, там, где у него пулемет и пушка. Что я тогда буду делать? Шестнадцать человек сидят по ямочкам. Мин никаких. Бородин говорит — через три дня будут, где-то разгружают их... Допустим, не надуют. Еще две или даже три ночи ставить их надо. А пять дней этих жди и моли бога, чтоб немцы паиньками сидели.
Перелистываю дальше.
"Бойчей же всех шли дела рестораторов, которые выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь, после штурма, офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города, с бастиона... В гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок, и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали остротами, весело хохотали..."
Скрытая за буфетом кухня. Дюжина столиков для посетителей...
Я откладываю книгу в сторону. Натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть.
Возится и кряхтит в углу связист. Тикают с перебоем ходики,— Валега уже где—то достал,— маленькие, синенькие, с самодельными стрелками из консервной банки.
Съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой. Последний раз я, по-моему, свиную ел... я даже не помню когда. В Киеве, что ли? Или где-то уже в армии. Хотя нет, то не свиная была, а так просто поджаренное мясо.
Я переворачиваюсь на другой бок. Режет глаза коптящая лампа.
В половине одиннадцатого прилетит "кукурузник". В одиннадцать я должен начать атаку. В начале первого появится луна. Значит, в моем распоряжении будет час пятнадцать минут. За эти час пятнадцать минут я должен спуститься в овраг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншей и закрепиться. А если "кукурузник" опоздает? Или их будет не один, а два или три? Комдив, я хорошо помню, сказал "кукурузники", а не "кукурузник". Вот дурак я, не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбился, я полезу, а тут второй прилетит. А атаковать надо сразу же после него, пока не очухались немцы. Надо позвонить майору, чтоб узнал точно у комдива.
Какие у него черные и пронизывающие насквозь глаза, у комдива. В них трудно долго смотреть.
Говорят, летом, где-то под Касторной, он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах.
Смелый, дьявол!
А по передовой как ходит... Ни пуль, ни мин, ничего для него не существует. Что это — показное, пусть молодежь учится? Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты... Когда его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это, кажется, у Тарле я вычитал.
И что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют. А другие — нет. Максимов, помню, говорил как-то:
"Людей, ничего не боящихся, нет. Все боятся. Только одни теряют голову от страха, а у других, наоборот, все мобилизуется в такую минуту и мозг работает особенно остро и точно. Это и есть храбрые люди".
Вот таким именно и сам Максимов был. Был... Сейчас его, вероятно, уже в живых нет. С им в самую страшную минуту не страшно было. Чуть-чуть побледне— ет только, губы сожмет и говорит медленнее, точно взвешивая каждое слово.
Даже во время бомбежек,— а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово,— он умел в своем штабе поддерживать какую—то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет его уже. И многих нет.
Где Игорь? Ширяев? Седых? Может, тоже уже в живых нет...
Жили, учились, о чем—то мечтали — тр-рах! — все полетело — дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфеноны.
Парфенон... как сейчас помню — 454—438 гг. до .э. Замкнутая колоннада — периптер, 8 колонн спереди, 17 по бокам. А у Тезейона — 6 и 13... Дорический, ионический, коринфский стили. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее.
Ордер состоит из стилобата, колонны и антаблемента. Колонна из фуста, эхина и абака. Нет, не забыл еще. А антаблемент — архитрав, фриз, карниз. Или, наоборот, карниз и фриз. А как эти штуки называются, что по краям? Акро... Акро... тьфу ты пропасть, забыл-таки... Да. Акротеры.
А кто собор св. Петра строил в Риме? Первый — Браманте. Потом, кажется, Сангалло или Рафаэль. Потом еще кто-то, еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал. А колоннаду? Бернини, что ли.
Что за чепуха в голову лезет. Кому это нужно. Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе. Прилетит тонная бомба — и нету купола...
Что делать с Фарбером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажут, вероятно, мост взять. А может, третьему батальону? Отрежут мост и соединятся с нами на сопке. Вот это было бы здорово.
А странно... Недавно сидел я на этом кургане с Люсей и на Волгу смотрел, на товарный поезд внизу. И о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет.
Люся спрашивала тогда, люблю ли я Блока. Смешная девочка. Надо было спросить, любил ли я Блока, в прошедшем времени. Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего люблю покой. Чтоб меня никто не вызывал, когда я спать хочу, не приказывал...
Кто-то тянет за шинель.
— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант... Из политотдела пришли, вас спрашивают.
Выглядываю из-под полы. Двое в телогрейках, с набитыми бумагами полевыми сумками. Поверяющие, должно быть, или представители штаба к ночной атаке.
Надо вставать.
Ходики показывают два часа. Впереди еще девять.
9
Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки — все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами.
Чумак козыряет — прибыли в ваше распоряжение. Глаза блестят из-под чел— ки. С тех пор, со дня нашей стычки, мы не встречались — его отозвали на берег.
Разговор у нас строго официальный — задача, срок, пункт отправки. Все это он и без меня знает, и говорим мы об этом только потому, что надо об этом говорить. И вообще больше нам не о чем с ним говорить. Он нисколько не старается это скрыть. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие и чуть-чуть насмешливые. Ребята его — их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы,— стоят в стороне, поглядывают на нас, на губах окурки.
— Маскхалаты возьмете?
— Нет.
— Почему? У меня как раз четыре есть.
— Не надо.
— Водки дать?
— Мы свою пьем. Чужой не любим.
— Ну, как знаете.
— Можете за наше здоровье выпить.
— Спасибо.
— Не стоит.
И они уходят к Карнаухову. Когда я туда прихожу, их уже нет.
В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела. Один из штадива. Начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш.
— Вы продумали ход операции? — спрашивает он, подымая бесцветные глаза. У него длинные, выдающиеся вперед зубы, налезающие на нижнюю губу.
— Да, продумал.
— Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?
— Знаю.
— А как у вас с флангами?
— С какими флангами?
— Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?
— Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей. Мы идем на риск.
— Это плохо.
— Конечно, плохо.
Он записывает что-то в блокнот.
— А какими ресурсами вы располагаете?
— Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет четырнадцать человек.
— Четырнадцать?
— Да. Четырнадцать. А четырнадцать на месте. Всего двадцать восемь.
— Я бы на вашем месте не так сделал...
Он заглядывает в свой блокнот. Я не свожу глаз с его зубов. Интересно, скрываются ли они когда-нибудь или всегда так торчат.
Я медленно вынимаю из кармана портсигар.
— Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится, а пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению.
Он поджимает губы, насколько зубы позволяют ему это. Политотдельщики, наклонив головы, что-то старательно записывают в свои полевые книжки. Они, славные ребята, понимают, что вопросы сейчас неуместны, и молча занимаются своим делом.
Больше никто ничего не говорит.
Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан переключается на Карнаухова. Тот спокойно, изредка улыбаясь и перекидываясь со мной взглядами, обстоятельно на все отвечает — чем вооружены бойцы, и сколько у них гранат, и по скольку патронов у каждого. Адское терпение у этого человека. А капитан все записывает.
Сейчас я, кажется, попрошу их всех уйти отсюда. Могут и на батальонном КП посидеть. В конце концов, здесь им совершенно нечего делать. Узнали, что надо, проверили, а за ходом боя могут и оттуда следить.
Часы показывают четверть десятого. Я начинаю нервничать. Разведчики могли бы уже вернуться. Пришедший с передовой боец говорит, что они уже давно уползли и сейчас ничего не слышно. Немцы бросают ракеты, стреляют, как всегда. Не похоже, чтобы их поймали или заметили.
Я выхожу на двор.
Ночь темная-темная. Где-то далеко, за "Красным Октябрем", что-то горит. Чернеют тонкие, точно тушью прорисованные, силуэты исковерканных ферм. На том берегу одиноко ухает пушка — выстрелит и помолчит, выстрелит и помолчит, точно прислушивается. Постреливают пулеметы. Взлетают ракеты. Сегодня почему—то желтые. Белые, вероятно, кончились у немцев. Пахнет горелым деревом и керосином. В двух шагах от нас состав с горючим, днем его хорошо видно отсюда. Все время тонкими струйками из пулевых пробоин в цистерне сочится керосин. Бойцы бегают туда по ночам наполнять лампы.
По старой, с детства еще, привычке ищу в небе знакомые созвездия. Орион — четыре яркие звезды и поясок из трех поменьше. И еще одна — совсем маленькая, почти незаметная. Какая-то из них называется Бетельгейзе, не помню уже какая. Где-то должен быть Альдебаран, но я уже забыл, где он находится.
Кто—то кладет мне руку на плечо. Я вздрагиваю.
— О чем задумался, комбат?
С трудом различаю в темноте массивную фигуру Карнаухова.
— Да так... Ни о чем. На звезды смотрю.
Он ничего не отвечает. Мы стоим и смотрим, как мигают звезды. Выползают откуда—то затерянные обычно в подвалах сознания мысли о бесконечности, космосе, о каких-то мирах, существовавших и погибших, но до сих пор подмигивающих нам из черного, беспредельного пространства. Звезды гаснут, зажигаются. А мы ничего не знаем. И никто никогда не узнает, что в эту темную октябрьскую ночь умерла звезда, прожившая миллионы лет, или родилась новая, о которой тоже через миллионы лет узнают.
— А в Сибири уже снег,— говорит Карнаухов.
— Должно быть,— отвечаю я.
— И морозы.
— И молоко льдинами продают. Кусками. Правда?
— А во Владивостоке еще купаются.
— Там, говорят, море холодное.
— Холодное. Но все-таки купаются.
Где-то далеко-далеко, за Волгой, еле уловимо трещит "кукурузник". Не наш ли? А разведчиков все еще нет. Прислушиваемся к приближающемуся звуку. Он идет где-то правее. Приближается, потом удаляется. Не наш. Глухие разрывы далеко на Тракторном. Тревожно мечутся по небу немецкие прожекторы. Расширяются, суживаются, потухают, опять вспыхивают. И мы стоим и смотрим на прожекторы, на извивающиеся в воздухе красно—желто—зеленые цепочки немецких зениток, на медленно гаснущие в овраге ракеты. И так уж привыкли мы к этому зрелищу, что, прекратись оно вдруг, нам стало бы как-то не по себе, чего-то не хватало бы.
— Ну, как, возьмем сопку, комбат? — совсем тихо спрашивает Карнаухов.
— Возьмем,— отвечаю я.
— И по—моему, возьмем.— И он слегка сжимает мне плечо рукой.
— Вас как зовут? — спрашиваю я.
— Николаем.
— А меня Юрием.
— Юрий. У меня брат Юрий — моряк.
— Жив?
— Не знаю. В Севастополе был. На подводной лодке.
— Вероятно, жив,— почему-то говорю я.
— Вероятно,— несколько помедлив, отвечает Карнаухов, и больше мы уже не говорим.
Высоко в небе срывается звезда. Душа в другой мир ушла, говорили в старину. Мы спускаемся вниз. В клубах табачного дыма трудно разобрать лица. Политотдельщики, сидя на корточках, едят консервы. Начальник связи спит, прислонившись к стенке и свесив набок голову. Капитан читает газету, пристроившись к коптилке. Увидев нас, он подымает голову.
— Без четверти десять.
— Без четверти десять...
— А разведчиков нет?
— Нет.
— Это плохо.
— Возможно.
Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуху не хватает.
— Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.
Глаза у капитана становятся круглыми, он откладывает газету. — Почему?
— Потому...
— Я попрошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.
— Я ничего не забываю, я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.
— Я вам мешаю?
— Да. Мешаете.
— Чем же?
— Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.
Я чувствую, что начинаю говорить глупости.
— Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.
— Значит, вы собираетесь все время при мне находиться?
— Да. Намерен.
— И сопку со мной атаковать будете?
Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демон— стративно встает, аккуратно складывает газету, засовывает ее в планшетку и, повернувшись ко мне, медленно, старательно выговаривая каждое слово, про— износит:
— Ладно. В другом месте поговорим.
И выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может ее отцепить. Политотдельщики смеются. Доедают свои консервы. Я против них ничего не имею. Но не мог же я одного только капитана выставить. Они понимающе смеются и, пожелав успеха, тоже уходят.
В подвале сразу становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть все время на корточках.
Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в "Красной звезде" — "Место командира в бою". В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. В первых рядах он ничего не увидит. Это, пожалуй, верно.
Но вот сейчас, в разговоре с капитаном, эта фраза о сопке вырвалась у меня как—то сама по себе. Впрочем, кто его знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе,— без глаз, без ушей.
Стрелки часов соединяются и застывают около десяти.
Опять звонят из штаба, вернулись ли разведчики. Спрашивает помощник по тылу Коробков, оперативный дежурный. Когда он дежурит, никогда покоя нет: "Доложите обстановочку, хватает ли семечек, не нужны ли огурчики?" Семечки — это патроны (черные — винтовочные, белые — автоматные), огурчики — мины...
Голова Чумака появляется в щели, как раз когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные. Грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами. Сразу заполняют все помещение.
Я ничего не спрашиваю. Жду.
Чумак молча, вразвалку, подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает на стол.
— Закуривайте.
Всовывает в прозрачный из плексигласа мундштук сигарету с золотым обрезом.
— Можете начинать. Семафор открыт,— и, кивнув своим разведчикам: — Шабашьте. До утра не трону.
Я спрашиваю:
— Мины есть?
— В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше.
— Много?
— Не считал. Штук пять мы выкинули. С усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные.
В руке его блестит медный немецкий взрыватель от мины с тремя торчащими кверху проволочками. Саперы их называют усиками. Тело мины закапывается в землю, и только усики на поверхности земли остаются. Наступишь, боек ударит в капсюль, капсюль воспламенит порох, порох — вышибной заряд, мина подпрыгивает над землей, взрывается в воздухе, рассеивая шрапнельные шарики во все стороны. Паршивая мина.
— Так что левее пушки не идите. А правее — метров двести прощупали — ничего нет.
— А немцев много?
— Черт его знает... Как будто не очень... В блиндажах сидят. Патефон крутят. "Катюшу" нашу...
Чумак шарит что-то по карманам.
— Стихов не пишете?
Черный глаз с золотистым ободком насмешливо смотрит на меня из-под челки.
— Нет. А что?
— Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные, в пузырьке.
— Нет. Не пишу.
— Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой, поэтический.
И, повертев в руках красивую, с малахитовыми разводами ручку, сует ее в карман.
— Немца там одного кокнули, в охранении сидел.
Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Валега предлагает водки. Мне не очень хочется, но я все-таки граммов сто выпиваю. Чумак иронически улы— бается.
— Чтоб солдатам веселее было?
Я ничего не отвечаю. Ищу автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.
— Далеко?
— Нет. Не очень.
— Если на сопку, не рекомендую. Тут уютнее.
Бужу начальника связи. Он так и не ушел. Моргает непонимающими, затяну— тыми еще сном глазами.
— Покомандуй здесь вместо меня, а я пошел.
— Куда?
— Туда.
— Ага...
По глазам его вижу, что ничего не понимает.
— Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь.
Он встает и торопливо кулаками протирает глаза.
— Хорошо... Хорошо...
Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорит, что парень толковый. Старший лейтенант. Какие-то курсы при Академии кончил.
Валега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже похрамывает.
— Как же это так...— недоумевающе смотрит он на меня маленькими, недовольными глазками из—под круглого, выпуклого лба.
Я вставляю магазин в автомат.
— Может, покушаете на дорогу? Консервы есть. Тушенка. Вы ж и обедать-то не обедали как следует. Я открою.
Нет. Мне есть не хочется. Когда вернусь, поем. Он все-таки всовывает мне в карман краюху хлеба и кусок сала, завернутый в газету. Когда я в школу еще ходил, мать тоже на ходу мне завтрак всовывала. Только тогда это была французская булочка или бублик, разрезанный пополам и намазанный маслом.
10
"Кукурузник" опаздывает. Минут на десять. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могут устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки на впалых небритых щеках.
Карнаухов на правом фланге. Здесь же командует командир взвода Сендецкий — не очень умный, но смелый паренек. На "Метизе" он неплохо отражал немцев. Был даже ранен, легко, правда, но в санчасть не пошел.
Сосед мой перестает хрустеть.
— Слышите?
— Что?
— Не "кукурузник" ли?
Со стороны Волги тарахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да. Это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров семьдесят — не больше. Может и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины — обыкновенные минометные мины.
Звук приближается. Назойливый,- какойто домашний, совсем не военный... "Кукурузник", "русс-фанер"... В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Точно жук большущий гудит. Есть такие монотонные ночные жуки — гудят, гудят, и никак их не увидишь.
"Кукурузник" уже над самой головой. Делает круг, уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет, прожектором его не поймаешь, слишком низко.
Сейчас сбросит...
— Ну!
Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение.
Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут пять — десять покружится, чтобы дать нам возможность подползти.
"Кукурузник" делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. До тошноты хочется курить. Будь я один, я сел бы на корточки и закурил.
"Кукурузник" сбрасывает бомбы. Они тарахтят, как хлопушки. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы.
Еще один круг... Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками, похожими на свирель, футбольные судьи засекают голы.
"Кукурузник" опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом, на бруствер, между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине.
"Кукурузник" строчит из пулемета беглыми, короткими очередями, точно отплевываясь.
Пора...
Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины.
Возьмем или не возьмем? Нельзя не взять. Я помню глаза комдива, когда он сказал: "Ну, тогда возьмешь".
Снимаю с шеи автомат. Ползу вниз. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне — метрах в двадцати. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу, слышу только, как ползут.
"Кукурузник" все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо.
А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза... Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтоб противнику веселее было...
Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Подымаюсь по противоположному склону. Не напороться бы... Правда, Чумак говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки — кустарник сухой. Неосторожный все—таки народ.
Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем — не знаю. Как будто кто—нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда, большая, яркая, немигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее.
И вдруг—"трах-тах-тах-тах..." над самым ухом. Я вдавливаюсь в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся?
Приподымаю голову: ничего не разберешь... Что-то темнеет... Кругом тишина. Ни хруста, ни шороха. "Кукурузник" уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать.
Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще пять, еще десять метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Откуда-то, точно из-под земли, доносятся звуки фокстрота — саксофон, рояль и еще что-то, не пойму что.
"Трах-тах-тах-тах..."
Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось.
Я бросаю гранату наугад вперед, во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое... Что-то вырастает перед тобой. Исчезает...
Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его неограниченна. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость — вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет "ура", облегчающего, все закрывающего, возбуждающего "ура". Нет зеленых шинелей. Нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора. И пути назад нет. Неизвестно, где перед, где зад.
Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея... заворот... кто-то... удар... выстрел... гашетка под пальцем, приклад... шаг назад, опять удар. Потом тишина.
Кто это? Свой... Где наши? Пошли. Стой!.. Наш, наш, чего орешь...
Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов?
— Карнаухов! Карнаухов!
— А они там — впереди.
— Где?
— Там, у пулемета.
Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет.
11
Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.
— Хорошая, суконная. Всю войну воевал в ней. Жаль.
— Утром найдешь. Никто не заберет.
Он смеется:
— Ну что, товарищ комбат? Взяли все-таки сопку?
— Взяли, Карнаухов. Взяли! — И я тоже смеюсь, и мне хочется обнять и расцеловать его.
На востоке желтеет. Через час будет совсем уже светло.
— Пошлите кого—нибудь на КП, пускай связь тянут.
— Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.
— Людей не проверяли?
— Проверял. Налицо пока десять. Четырех еще нет. Пулеметчики все. Руч— ных я уже расположил. А станковый — вот здесь, по-моему, не плохо. Второй же...
— Второй — туда, правее. Видите? — говорю я.
— Может, сходим посмотрим?
— Сходим.
Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Оборона у немцев, по всему видно, круговая. Самих немцев не видно и не слышно.
Стреляют где—то правее и левее — на участке первого и третьего батальонов. Глаза привыкли уже к темноте. Кое-что можно уже разобрать. Раза два наталкиваемся на трупы убитых немцев. За "Красным Октябрем" все еще что-то горит.
— А где Сендецкий?
— Я здесь,— неожиданно раздается в темноте голос. Потом появляется и фигура.
— Мотай живо на КП. Скажи Харламову, чтоб срочно снимал людей со старых окопов и соединялся с нашим правым флангом. По дороге уточни его фланг. По-моему, за тем кустом уже конец. Так, что ли, Карнаухов?
— Да, дальше никого уже нет.
— Понятно, Сендецкий? Давай! Одна нога здесь, другая — там.
Сендецкий исчезает. Мы находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.
— Комбат?
— Комбат. А что?
— Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.
Голос Чумака.
— Ты что здесь делаешь?
— То же, что и вы.
— А ты ж шабашить собирался.
— Мало ли что собирался...
Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него.
— Ну... Чего стал?
— Слушайте, комбат... Ведь вы же, оказывается...
— Что?
— Я думал, вы поэт, стишки пишете... А выходит...
— Ну, ладно, веди.
Он ничего не отвечает. Мы идем дальше. Подымается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы, забирается через воротник под гимнастерку, к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться и идешь, идешь, идешь куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух.
Взяли все—таки сопку. И не так это сложно оказалось. Видно, у немцев не очень—то густо было. Оставили заслон, а сами за "Красный Октябрь" взялись. Но я их знаю, так не оставят. Если не сейчас, то с утра обязательно отбивать начнут. Успеть бы только сорокапятимиллиметровки сюда перетащить и овраг оседлать. Начнет сейчас Харламов возиться — искать, укладывать, раскачиваться. Там, правда, начальник связи с ним. Вдвоем осилят, не так уж и сложно. Лопаты синицынские все еще у меня, до утра бойцы окопаются, а завтра ночью начну мины ставить.
Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, немигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь — и никуда больше.
Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь бой был?
* * *
Потом мы сидим в блиндаже. Глубокий, в четыре наката и сверху еще земли с полметра. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над ломберным столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками открытки веером — еловая веточка с оплывшей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше — фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще.
На столе лампа с зеленым абажуром. Штук пять бутылок. Шпроты. Лайковые перчатки, брошенные на койку.
Чумак чувствует себя хозяином, наливает коньяк в тонконогие с монограммами бокалы.
— Позаботился все-таки фюрер о нашем желудке... Спасибо ему.
Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух. Карнаухов выпивает и сейчас же уходит. Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках.
— А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал.
— Какая рука?
Золотистые глаза смеются.
— Да вот эта, в которой папироса у вас.
Ничего не понимаю.
— А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.
— Какое левое плечо?
— А вы не помните? — И он весело хохочет, запрокинув голову.— Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаху. По левой лопатке.
— Постой... Постой... Когда же это?
— Когда? Да с полчасика тому назад. В окопе. За немца приняли. И как ахнули!.. Круги только и пошли. Хотел со зла ответить. Да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему...
Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте не разобрал — кого.
— За такой удар и часики не жалко,— говорит Чумак, роясь в кармане.— Хорошие. На камнях. Таван-Вач.
Мы оба смеемся.
В блиндаж вваливаются связисты с ящиками, с катушками. Дышат, как паровозы.
— Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали.
— Как так?
Белесый с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат.
— Да они там по оврагу, как тараканы, ползают.
— По какому оврагу?
— По тому самому... где передовая у нас шла.
Глаза у Чумака становятся вдруг маленькими и острыми.
— Ты один или с хлопцами? — спрашиваю я.
— А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас...
Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях.
Неужели отрезали? Связисты тянут сквозь дверь провод.
— Это точно, что немцы в овраге?
— Куда уж точнее,— отвечает белесый,— нос к носу столкнулись. Человек пять ползло. Мы еще по ним огонь открыли.
— Может, то наши новую оборону занимали?
— Какое там наши. Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили, что с горлом перевязанным ходит. Начальника штаба искал.
— А ну давай, соедини с батальоном.
Белесый навешивает на голову трубку.
— Юпитер... Юпитер... Алло... Юпитер...
По бесцветным, с белыми ресницами, глазам его вижу, что никто не отвечает.
— Юпитер... Юпитер... Это я — Марс...
Пауза.
— Всё. Перерезали, сволочи. Лешка, сходи проверь...
Лешка, красноносый, лопоухий, в непомерно большой пилотке, ворчит, но идет...
— Перерезали. Факт...— спокойно говорит белесый и вынимает из-за уха загодя, должно быть, еще на месте скрученную цигарку.
Я выбираюсь наружу. Со стороны оврага доносится автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы.
Потом появляется Чумак.
— Так и есть, комбат,— колечко.
— Угодили, значит?
— Угодили. В окопах, что по этому склону, расположились фрицы.
— И много?
— Разве разберешь? Отовсюду стреляют.
— А где Карнаухов?
— Пулемет переставляет. Придет сейчас.
Чумак вынимает зеленую пачку сигарет.
— Закуривайте. Трофейные.
Закуриваем.
— Да, Чумак, влопались. Что и говорить!
— Влопались,— смеется Чумак.— Но ничего, комбат. Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть. Запасов хоть отбавляй, они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо?
Подходит Карнаухов. Он уже занял круговую оборону. Нашел два немецких пулемета. Гранат тоже много. Ящиков десять нетронутых. И, кроме того, в каждой ячейке, в нишах лежат.
— Паршиво только, что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно.
— А сколько людей всего у нас?
— Пехоты — двенадцать. Двоих так и не нашел. Два пулемета станковых. Два ручных. Немецких еще два. Шесть, значит.
— Моих ребят еще трое,— вставляет Чумак,— да нас трое. Да двое связистов. Жить можно.
— Двадцать шесть, выходит,— говорю я.
Карнаухов подсчитывает в уме.
— Нет, двадцать два. Ручные пулеметчики не в счет, они в числе тех двенадцати.
Со стороны оврага стрельба не прекращается. То вспыхивает, то замирает. Стреляют, по-видимому, наши — с той стороны. Немцы отвечают. Трассирующие пули, точно нити, перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нас стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже не очень—то — зажаты с двух сторон.
Потом стрельба начинается где—то левее. Немцы подтягиваются. Обкладывают нас. Ракет, правда, не бросают; трудно определить точно, где теперь их передний край проходит.
Мы идем проверять огневые точки.
12
Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлял. Положился на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным: как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию, чтоб дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. А зубастый капитан, точно предчувствовал, о флангах спрашивал. Вот злится сейчас, должно быть. Или торжествует. Он, по-моему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам: "Говорил я, предупреждал... а он даже слушать не хотел. Прогнал. Вот и довоевался..."
Можно, конечно, прорваться сейчас к своим. Но к чему это приведет? Сопку потеряем и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться — тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. И третьему батальону сейчас самый раз начать действовать, отрезать мост и соединяться с нами.
Дня на два боеприпасов у нас хватит. Даже если все время придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны экономили. Гранаты тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. От мин немецких отбоя не будет.
В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристреляны, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли.
В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен. Глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах.
Опять оплошность. Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда крепкие, стальные, с хорошо обтесанными рукоятками.
Только мы приступаем к копке, как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей.
Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. Перевязываем индивидуальными пакетами, другого у нас ничего нет.
После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья — симоновских. Может, наши догадаются установить сорокапятимиллиметровки на той стороне оврага.
Часа в три начинает работать наша дальнобойная с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко — осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат.
Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет — и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты.
13
Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной Мусе.
Мы с Карнауховым чистим пистолеты.
Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура.
— Порядки знаешь какие там? — говорит Чумак.— В Куйбышеве. Ворота на запор. Часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик — как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего — боевые. Только начальства боятся. Посидят рядом на лавочке или к койке подсядут, но чтоб чего-нибудь — ни в какую... Нельзя — и все... Пока лежачим был — ничего, не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу — оживаю, начинает кровь играть. Но играть—то играет, а толку никакого. "Нельзя, товарищ больной. Не разрешается. Отдыхать вам надо. Поправляться..." Нечего сказать, хорош отдых. Валяйся на койке да в кино по вечерам ходи. А картины все старые — "Александр Невский", "Пожарский", "Девушка с характером". И рвутся, как тряпки. И гипсом воняет. Бррр-р...
Карнаухов улыбается уголком рта.
— Ты ближе к делу, о Мусе какой-то начал.
— И о Мусе будет. Не перебивай. А не нравится — не слушай. Иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.
Тянется за другой сигаретой.
— Слабые, сволочи. Не накуришься...— и, демонстративно повернувшись в мою сторону, продолжает: — Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробило — левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Торчит крючок — и все. Хорошо еще, ниже локтя разбило. А у тех, что выше или ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке. Их в госпитале "самолетами" называют. Ходят, а рука на полметра впереди. А вторая рана в задницу. Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда — на ведро сходить, и то событие. И Муси стесняюсь... А бабец — что надо! Косищи — во какие. И халатик в обтяжку. Сам понимаешь. Подсядет на койку — я еще не ходил,— яичницей порошковой кормит с ложечки, а я как на иголках... Потом стали мы в окна вылазить... Из ванны там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Инженер — как ты. Культурный парень, с образованием, до войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним, в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом, пикировали. А за углом дом был знакомый. Там переодевались — и в город. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и сигали. А когда забили окно,— заведующая пропускником увидала,— наловчились по водосточной трубе слезать. И как еще слезали!.. Один безногий у нас там был. Нацепит костыли на одну руку, и — как мартышка, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зарой, и то спикирует.
Карнаухов смеется.
— У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном — хлоп-хлоп-хлоп, один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежачие на койках.
— Что кино...— не поворачиваясь, перебивает его Чумак,— мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали, и сорвали нашу лестницу. Всю палату к начальнице отделения вызывали. Да что толку. На следующий день из седьмой палаты запикировали...
Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины.
Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мопассановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску.
В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на двадцать человек.
За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет.
Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
— Что — спать, лейтенант? — спрашивает Чумак.
— Нет, просто так, полежу.
— Слушать надоело?
— Нет, нет, рассказывай. Я слушаю.
И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтоб не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным, узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.
— А хорошо все-таки в госпитале, Чумак? — спрашиваю я.
— Хорошо.
— Лучше, чем здесь?
— Спрашиваешь. Лежишь, как боров, ни о чем не думаешь, только жри, спи да на процедуры ходи.
— А по своим не скучал?
— По каким своим?
— По полку, ребятам.
— Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уже выписался.
— А говорил, в госпитале хорошо,— смеется Карнаухов,— жри и спи...
— Чего зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь — в госпиталь тянет, дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь — не знаешь, куда деться, на передовую тянет, к ребятам.
Карнаухов собирает пистолет,— у него большой, с удобной для ладони рукояткой, трофейный "вальтер",— впихивает его в кобуру.
— Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак?
— Три. А ты?
— Два.
— А я три. Два раза в армейских, а раз в тыловом.
Карнаухов смеется:
— А странно как-то, когда назад, на фронт возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо.
— Из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых... Из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточки.
Оба смеются, и Чумак и Карнаухов.
— Удивительная вот штука, товарищ лейтенант,— говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны,— когда сидишь в окопах, так кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное совсем уже тыл. А полковое или дивизионное... Бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками.
— А таких ты не видал,— перебивает Чумак; он вообще не может молча сидеть,— что за сто километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют — фронтовики, мол? У нас вот в госпитале был один...
Он вдруг останавливается, и глаза его застывают на двери.
— Ты откуда это?
Карнаухов тоже смотрит на дверь.
Валега... Самый настоящий Валега — головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками. Стоит в дверях. В шинели, кажется моей, до самых пят. Мнется.
— Ты откуда взялся, Валега?
— Оттуда... От нас...
Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает из-за спины мешок...
— Тушенку принес, шинель...
— Ты с ума спятил?
— Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам.
— От кого?
— Харламов дали, начальник штаба.
— Это он тебя и послал?
— Вовсе не он. Я сам пришел...— Валега вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба.— Я мешок укладывал, а они с тем, что из штаба полка, чего—то толковали, с вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом эту записку дали.
Он достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную вчетверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано:
"5.10.42.12.15. КП Ураган
Товарищ лейтенант. Ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся в овраг, и уничтожения ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 (семь) человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим.
Л-т Харламов (Харламов)".
Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно барочным "X" и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы, порхающие вокруг нее.
Разрываю записку. Клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он, в сущности, и старательный даже парень, только больно уж...
Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю, чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие — Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно.
— Шинель только мешала, не по росту. А так ничего. Там, левее чуть — разрыв у них. Между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Может, подогреть, товарищ лейтенант?
— Нет, не надо. Да и подогревать не на чем.
— Примуса ты не догадался притащить? — смеется Чумак.
Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол.
— Не стоит, Валега. И так слопаем.
И мы, все четверо, с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь — тушенка!
14
Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого... Пять... Тишина... Шесть, семь... Светает. Мы перестаем ждать.
Еще один день, значит.
Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов — средних и даже тяжелых. Часам к трем из шестнадцати человек нас остается двенадцать. Четверо раненых, из вчерашних еще, умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах — не молодой уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.
— Як же це так — без руки? — говорил он, осторожно укладывая привязанную к дощечке от патронного ящика руку на колено.— Без руки в нашому дiлi нiяк не можно. Краще б ногу вже.
Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего—нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную напряженную улыбку. Судороги захватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть.
— Это столбняк,— сказал Карнаухов,— у нас в медсанбате умер один от этого.
Через два часа раненый умер.
Его фамилия Фесенко. Я узнаю это из красноармейской книжки. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить связному тогда, где комбат.
В наш блиндаж попадает мина — стодвадцатимиллиметровая. Теоретически он должен выдержать — четыре наката из двадцатипятисантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя, перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей.
Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет.
Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше пяти — семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели.
Последнюю цигарку, собранную из всех карманов,— наполовину махорка, наполовину хлебные крошки,— выкуриваем втроем — я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны.
Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла: я наклонился, чтоб поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит: "Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой..." — и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить.
После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера. Перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел.
Последнюю атаку мы отражаем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники.
Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит...
Вечером мы подводим итог.
Людей — одиннадцать. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, два связиста, четыре пулеметчика — по два на пулемет, и один рядовой боец, тот самый сибиряк, старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредивший — к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых.
Пулеметов у нас четыре. Два вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно, у отечественных — от силы на полдня хватит.
Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели наши этой ночью не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что, если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться.
Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую, измятую сигарету. Мы курим ее поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем так же думать о воде. В термосе не больше двух литров — пулеметный НЗ*.
Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных, жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепился зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад.
Раненые утихли. Дышат только тяжело. Лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой,— и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась.
Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.
— Надо будет побаниться,— устало говорит он, почесываясь.— Соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит.
— Пока война не кончится, все равно не избавишься,— успокаивает Карнаухов.— Белье не прожаривают. Постирают в Волге — и все. А что толку от такой стирки?
———————————————
* НЗ — неприкосновенный запас.
Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики, бицепсами Чумака. По нему хорошо анатомию изучать.
— Вот кончится война, посадим Гитлера в бочку со вшами и руки свяжем, чтоб чесать не мог,— говорит он, не отрываясь от своей работы.
Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по—видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте.
Чумак натягивает на себя тельняшку. Встает.
— Эх, закурить бы..
— Да, неплохо бы. Хотя бы "Мотор" за тридцать пять копеек. Одну на троих.
— "Мотор"... Что "Мотор"? Мечтать так уж мечтать...
— Вы что до войны курили, товарищ лейтенант?
— "Беломор" и "Труд". В Киеве такие были, тоже два рубля.
— И я "Беломор"... Толстые, хорошие. Ленинградские особенно.
— Что вы после этого в папиросах понимаете,— говорит Чумак.— О "Беломоре" мечтают. "Казбек" — вот это папиросы. Я по две пачки выкуривал в день. Было времечко.
Он ходит взад и вперед по блиндажу. Два шага туда, два шага сюда. Потягивается, закинув руки за голову.
— Наденешь чарли — тридцать сантиметров, кепку на брови, бабу под руки,— пошел по Примбулю.
— Ты кем до войны был?
— Я? Шофером "ЗИС" водил. Потом на "Червоной Украине" служил. По Примбулю в Севастополе хиба ж так гулял, в беленьких брючках и с лентами до пояса. Надраишь мелом бляху, гюйс выгладишь, чистенький — "форма раз", только черноморская, белые брюки с клинушками, и па-ашел в город.
— Ты до войны думал о чем—нибудь, кроме баб? А, Чумак?
Чумак останавливается. Как будто даже задумывается.
— О водке еще думал. О чем же еще. Денег — завались. Научным работником становиться не собирался.— Пауза.— А вот сейчас...
— Неужели простыл?..
Чумак отвечает не сразу. Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова.
— Не то чтоб простыл... Но вот на войне...— Опять пауза.— Понимаешь, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана. Вместе выпивали, вместе морды били таким вот...— он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне,— таким вот субчикам. Но, в общем, не в этом дело.
Он садится на край стола. Раскачивает ногой. Ему трудно сформулировать свою мысль. Вертится где-то, а в точку попасть не может.
— В Севастополе, например, такой случай. Еще в самом начале осады. В декабре, что ли, или в конце ноября? Не помню уже. Был у меня товарищ. Даже не товарищ, а просто вместе на "Червоной" служили. Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе на берег в окопы попали. Около Французского кладбища. До войны мы с ним как кошка с собакой жили. Бабу одну все хотел отбить у меня. А паренек ничего — складный. У меня все кулаки чесались выбить ему пару зубчиков...
В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку — все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола.
— В общем, не любил я его. Да и он меня...
Карнаухов сидит, подперев руками голову. Не сводит серых глаз с Чумака. Чумак раскачивает ногой.
— Выбил я ему таки парочку. А он мне ребра помял. Недельки две, а то и три вздохнуть по-настоящему не мог. Но не в этом дело... Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывной изодрали. Шагах в пятнадцати от их окопов. Я думал, что совсем конец уже. Пузыри стал пускать. И, хрен его знает, не пошел ли бы совсем ко дну... А утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок.
Несколько секунд мы сидим молча. Чумак ковыряет ногтем край стола. Карнаухов как сидел, так и сидит, подперев голову руками. Дрожит язычок пламени в лампе. Один кончик у него длинный и тонкий, черной струйкой лижет стекло.
— Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Гаграх, в госпитале, узнал я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью... В общем — нету Терентьева, что говорить...
Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по блиндажу взад и вперед. Карнаухов, не поворачивая головы, следит за ним глазами.
— Понимаешь, до войны для меня ребята были, ну, как бы это сказать, ну, чтобы пить не скучно одному было. А сейчас... Вот есть у меня разведчик один. Да ты его знаешь, комбат, тот самый, из-за которого мы с тобой поругались вроде. Так я за него, знаешь, зубами горло перегрызу. Или Гельман — еврей. Куда хочешь посылай, все сделает. У него семью, в местечке где-то, всю целиком фашисты вырезали...
Он прерывает себя на полуслове и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Карнаухов опять принимается за свой рисунок.
— Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант? — деликатно спрашивает он, не поднимая головы.
— Да. Что—то в этом роде,— отвечаю я.
Карнаухов улыбается.
— Рассказывал мне давеча. Из-за какого-то убитого. Так, что ли?
— Да. С немца началось.
— Не понравились вы ему тогда, говорит.
— Что ж делать, на всех не угодишь.
— А теперь как? Наладилось?
— Что наладилось?
— Помирились?
— А разве мы ссорились? Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. Я люблю таких. То есть не тех, которые приказаний не выполняют, а таких, как Чумак, задиристых.
— В этом ему не откажешь.
— Не только в этом.
— А мне казалось, не такие вам нравиться должны.
— Не такие? А какие же?
— Ну, как вам сказать... Не одного поля вы ягоды, так сказать.
— А может...
Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.
— А где бачок пустой? Из-под воды.
— Какой бачок?
— Ну термос. Не все ли равно. Он у входа стоял.
— А что — нет?
— Нет.
— Куда ж он делся?
— Вот я и спрашиваю.
— Я выходил, он у входа стоял,— говорит Карнаухов,— споткнулся еще.
— А теперь нет. Я все обшарил.
— Валега, вероятно, взял. Штопать дырку от осколка.
— А где Валега?
— Тут был. Недавно. Автомат чистил. А тебе зачем?
— Да надо ж с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы.
— Что ж ты сообразишь? — не понимаю я.
— Чего—нибудь... Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит — журчит. Может, ключ какой.
— Какой там ключ. Керосин из цистерны течет. Ночью знаешь как слышно? До путей метров двести, не больше.
— А почему не проверить?
— Проверяй, если охота.
Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через пять объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.
— Ты где пропадал?
— Я не пропадал,— отвечает он, выковыривая грязь щепочкой из автомата.
— Бачок брал? Термос?
— Брал.
— Какого дьявола! Мы тут с ног сбились.
Валега смотрит на меня с укоризной.
— Вы же сами говорили, что воды нет.
— Ну?
— Вот я и пошел за ней.
— За водой?
— Ну да — за водой.
— На Волгу, что ли?
— Нет. До Волги не дошел.
— Да ты говори толком. Принес, что ли, воды?
— Воды не принес. Вина принес.— И он опять углубляется в затыльник своего автомата.
Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил себе путь движения. Какую—то тропинку правее моста, в сторону третьего батальона.
— Отчего ж ты ничего не сказал?
— А вы б не пустили. Чего ж говорить. Короче говоря, до третьего батальона он не добрался, наткнулся на какую-то кухню немецкую.
— Там, около насыпи. Ночью, должно быть, приезжает. На конях. Здоровые такие, битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помор выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И вполголоса что-то по своему — хау, хау, хау... Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. Шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. А они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. А я жду. Минут десять прождал. Все брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут и взял один термос. А тот, наш, оставил. Пустой... Ругаться будут.
И Валега улыбается чуть-чуть, уголком рта. Это с ним редко случается.
Вино — дрянь, кислятина... Как раз для пулемета. Мы выпиваем каждый по полстакану. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать.
Мне снится Черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы — большие и маленькие, точно зонтики.
15
Атака наших не удается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут десять еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку.
До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает.
В семь прилетает "рама". Урчит, урчит без конца, выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом без всякой подготовки немцы переходят в атаку.
Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами. На двух — пулеметчики, на двух — Чумак с Карнауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги.
Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо.
Потом обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей.
Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас.
— Сволочи! — говорит Валега.
— Сволочи! — повторяю я.
Обстрел длится минут двадцать. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем.
Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку.
— Двоих левых накрыло,— кричит он.
Мы остаемся с тремя пулеметами.
Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку.
Он бежит по траншее. Хромает. Осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита.
— Угробило тех двоих,— говорит он, вынимая затвор.— Одни тряпки остались.
Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно. Дает очередь. Все в порядке.
— Патронов хватит, комбат?
— Пока хватит.
— Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется...
— В него мина попала.
Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.
— Не уйдем, лейтенант? — Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.
— Нет! — говорю я.
Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму.
Потом убивает старика сибиряка.
Опять стреляем. Пулемет трясется как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками...
Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подагрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает — срезает пулемет.
Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, десять, двенадцать. В голове гудит. А может, то самолеты над головой? Чумак что—то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде.
Давай еще! Еще... Еще... Валега! Он тащит ящик.
У него смешно дрыгает зад — вправо, влево. Пот заливает глаза, теплый, липкий.
Давай!.. Давай!..
Потом какое—то лицо — красное, без пилотки, лоснящееся.
— Разрешите, товарищ лейтенант.
— Уйди...
— Да вы ж ранены...
— Уйди...
Лицо исчезает, вместо него что—то белое, или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое: расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее. Дрожат. Потом вдруг нашатырь. Круги исчезают. Вместо них лицо. Золотой чуб, расстегнутый ворот, глаза, смеющиеся голубые глаза. Ширяевские глаза. И чуб ширяевский. И лампа с зеленым абажуром. И нашатырем воняет так, что плакать хочется.
— Узнаешь, инженер?
И голос ширяевский. И кто-то трясет, обнимает меня, и чей-то воротник лезет в рот — шершавый и колючий.
Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега. И Харламов. И Ширяев. Настоящий, живой, осязаемый, золоточубый Ширяев.
— Ну, узнаешь?
— Господи боже мой, конечно же!
— Ну, слава богу.
— Слава богу.
Мы трясем друг другу руки и смеемся и не знаем, что еще сказать. И все кругом почему-то смеются.
— Вы осторожнее, товарищ старший лейтенант, они же ранены. Совсем растрясете.
Это, конечно, Валега. Ширяев отмахивается.
— Какое там раненый. Сорвало кожу, и все. Завтра заживет.
Я чувствую слабость. Голова кружится. Особенно при поворотах.
— Пить хочешь?
Я не успеваю ответить, в зубах моих кисловатая жестянка, и что-то холодное, приятное разливается по всему телу.
— Откуда взялся, Ширяев?
— С луны свалился.
— Нет. Серьезно.
— Как — откуда? Получил назначение, и все. Комбатом в твой батальон. Недоволен?
Он ничуть не изменился. Даже не похудел. Такой же крепкий, ширококостый, подтянутый, в пилотке на одну бровь.
— А тебя малость того... подвело,— говорит он, и широкая белозубая улыбка никак не может сойти с его лица.— Не очень-то отдыхаете.
— Да, насчет отдыха слабовато... Но погоди, погоди. Сейчас-то вы откуда взялись?
— Не все ли равно откуда. Взялись, и все.
— А фрицы?
— Фрицы — фрицами. Из оврага убежали. Двух пленных даже оставили.
— А вас много?
— Как сказать. Два батальона. Твой и третий. Человек пятьдесят.
— Пятьдесят?
— Пятьдесят.
— Врешь!
Он опять смеется. И все окружающие смеются.
— Чего же врать. По-твоему, много?
— А по-твоему?
— Как сказать...
— Стой... А мост? Мост как?
— Сидят еще там человек пять,— вставляет Харламов,— но не долго уж им.
— Здорово. Просто здорово. А Чумак, Карнаухов?
— Живы, живы...
— Ну, слава богу. Дай-ка еще водицы.
Я выпиваю еще полторы кружки, Ширяев встает.
— Приводи себя в порядок, а я того, посмотрю, что там делается. Вечером потолкуем — Оскол, Петропавловку вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой сидели? — Он протягивает руку.— Да, Филатова помнишь? Пулеметчика. Пожилой такой, ворчун.
— Помню.
— Немецким танком раздавило. Не отошел от пулемета. Так и раздавило их вместе.
— Жаль старика.
— Жаль. Мировой старик был.
— Мировой.
Несколько секунд мы молчим.
— Ну, я пошел.
— Валяй. Вечером, значит.
И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь.
Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне.
* * *
Вечером мы сидим с Ширяевым на батальонном КП — в трубе под насыпью.
Рана у меня чепуховая — сорвало кожу на лбу и дорожку в волосах сделало. Я могу даже пить. Правда, немного. И мы пьем какой-то страшно вонючий не то спирт, не то самогон. Закусываем селедкой. Это та самая, которую я выкинул на сопке. Валега, конечно, не мог перенести этого.
— Разве можно выбрасывать. Прошлый раз выпивали, сами говорили: "Вот селедочки бы, Валега..." — и раскладывает ее аккуратненькими ломтиками, без костей, на выкраденной из харламовского архива газете. Из-за этого у них всегда возникают ссоры.
Мы сидим и пьем, вспоминаем июнь, июль, первые дни отступления, сарайчики, в которых расстались. После этого Ширяев почти весь батальон потерял. Немцы их около Кантемировки окружили. Сам он чуть в плен не попал. Потом с четырьмя оставшимися бойцами двинулся на Вешенскую. Там опять чуть к немцам не попали. Выкрутились. Перебрались через Дон. За Доном в какую-то дивизию угодил, собранную из остатков разбитых. Воевал под Калачом. Был легко ранен. Попал в Сталинград — в резерв фронта. Там около месяца проторчал и вот сейчас получил назначение в наш полк комбатом.
Лежа на деревянной, сбитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева. Стараюсь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же — даже голубой треугольник майки выглядывает из-за расстегнутого ворота.
— О Максимове ничего не слыхал? — спрашиваю я.
— Нет. Говорил мне кто-то, не помню уже кто, будто видел его где-то по эту сторону Дона. Но маловероятно. Я всю эту сторону исколесил — ни разу не встретил.
— А из наших с кем встречался?
— Из наших? — Ширяев морщит нос.— Из наших... кое-кого из командиров рот. Начальника разведки — Гоглидзе. На машине проехал. Рукой махал. Ну, кого еще? Из медсанбата девчат. Парторга Быстрицкого... Да! — Он хлопает ладонью по столу.— Как же! Друга твоего, химика, как его?
— Игоря? Где? — Я даже приподымаюсь.
— На этой уже стороне. Дней пять тому назад.
— Врешь.
— Опять врешь. На "Красном Октябре" он. В Тридцать девятой.
— В Тридцать девятой?
— И не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие—то минные поля, фугасы, тому подобная хреновина.
— А ты что в Тридцать девятой делал?
— Да ничего. Случайно совсем вышло. Штаб армии искал. Какой-то дурак сказал мне, что он в Банном овраге. Я и двинул туда. А там знаешь что делается? За три шага ничего не видно. Дым, пыль,— черт-те что... "Певуны" как раз налетели. Я — в щель. Даже не в щель, а так что-то. Потом вижу дверь деревянную. Давай туда, хоть от осколков спасет. Влезаю внутрь. Потом, когда они уже улетели, хочу уходить, а меня кто-то за руку. Смотрю — Игорь твой. Не узнал даже сначала. Усики сбрил. Черный весь, закопченный. По глазам только и узнал.
— Ну живой, здоровый?
— Живой, здоровый. О тебе, конечно, спрашивал. А что я мог сказать? Не знаю — и все. Пожалели мы, пожалели, а потом он и говорит, будто в Сто восемьдесят четвертой ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Вакантных мест теперь в дивизии знаешь сколько. В штабе армии и попросился в Сто восемьдесят четвертую. Они с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал, в каком ты полку.
— Молодчина, ей-богу!
— Вот так—то оно и вышло...
— А Седых не видал?
— Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут десять разговаривали.
— Его портсигар до сих пор у меня хранится. На прощанье мне подарил.
Я вынимаю из кармана целлулоидовый портсигар.
— Хороший,— говорит Ширяев.
— Хороший. Сами делали. На Тракторном когда сидели. Там этого целлулоида знаешь сколько было?
— Здорово сделано. Неужели сами делали?
— Сами.
— А выцарапал на крышке кто?
— Я. Это монограмма. Просто ножом выцарапал.
— Здорово. У тебя только один?
— Один. Свой я подарил. А это от Седых — на память. Славный паренек был.
— Славный.
— Никак только поверить не мог, что земля вокруг солнца вертится, а не наоборот.
Ширяев еще наливает.
— Мне больше не надо,— говорю я,— у меня уже голова кружится. Потом приходит Абросимов — начальник штаба полка. Бледный. Вид недовольный. Говорит, что комдив чуть не снял его за то, что в прошлую, не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделать,— полк опять собирались передислоцировать. Затем отменили.
Они с Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона.
Часов в двенадцать Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Валегой отправляемся на берег. Карнаухов и Чумак все еще на передовой, я с ними так и не попрощался.
Харламов протягивает руку.
— Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам,— и смотрит на меня добрыми глазами.
Мне немножко грустно. Привык я уже к батальону. Боец у входа, фамилия у него какая-то длинная и заковыристая, никак не упомнишь, даже козыряет, перехватив винтовку из правой руки в левую.
— Уходите от нас, товарищ комбат?
— Ухожу.
Он покашливает и опять козыряет, на этот раз уже прощаясь.
— Заходите, не забывайте.
— Обязательно, обязательно,— говорю я и, опершись на плечо Валеги, выбираюсь из траншеи. Боец с заковыристой фамилией деликатно подталкивает меня под зад.
16
Три дня я бездельничаю. Ем, сплю, читаю. Больше ничего. Новый блиндаж Лисагора великолепен — чудо подземного искусства. Семиметровый туннель — прямо в откосе. В конце направо комната. Именно комната. Только окон нет. Все аккуратненько обшито досками: тоненькими, подогнанными, ножа не воткнешь. Пол, потолок, две коечки, столик между ними. Над столиком овальное, ампирное зеркало с толстощеким амуром. В углу примус, печка—колонка. Тюфяки, подушки, одеяла. Что еще надо? Напротив, через коридорчик, саперы все еще долбят. Уже для себя.
— Как боги заживем,— говорит Лисагор.— Нары в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склад для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли? Четырнадцать метров! И все глина. Твердая, как гранит. В общем, всерьез и надолго.
Мне все это нравится. Хорошее безопасное помещение на фронте если не половина, то, во всяком случае, четверть успеха. И я три дня наслаждаюсь этой четвертушкой.
Утром Валега кормит меня макаронным супом, жирным и густым — ложку не провернешь, потом чаем из собственного самовара. Он уютно шумит в углу. Подложив подушку под спину, я решаю кроссворды из старых "Красноармейцев" и наслаждаюсь чтением московских газет.
На земном шаре спокойно.
В Новой Зеландии объявлен новый призыв в армию. На Египетском фронте активность английских патрулей. Мы восстановили дипломатические отношения с Кубой и Люксембургом. Авиация союзников совершила небольшие налеты на Лаэ, Саламауа, Буа на Новой Гвинее и на остров Тимор. Бои с японцами в секторе Оуэн—Стэнли стали несколько более интенсивными.
В Монровию, столицу Либерии, прибыли американские войска.
На Мадагаскаре английские войска тоже куда-то движутся, что-то занимают, с кем-то — трудно понять с кем — воюют и даже пленных захватывают.
В Большом театре идет "Дубровский". В Малом "Фронт" Корнейчука. У Немировича—Данченко — "Прекрасная Елена"...
А здесь, на глубине четырнадцати метров, в полутора километрах от передовой, о которой говорит сейчас весь мир, я чувствую себя так уютно, так спокойно, так по-тыловому. Неужели же есть еще более спокойные места? Освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых, повернешь вентиль, и вода потечет? Странно...
И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких материях, о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — эта вот землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая только была, а до войны мне какие-то костюмы были нужны и галстуки в полоску, и в булочной я ругался, если недостаточно поджаренный калач за два семьдесят давали. И неужели же после войны, после всех этих бомбежек, мы опять... и так далее, в том же духе.
Потом мне надоедает рассматривать потолок и думать о будущем. Я выбираюсь наружу.
По-прежнему летают на "Красный Октябрь" самолеты, по-прежнему рвутся мины на Волге, на том, а иногда и на этом берегу, снуют лодки по реке, и немцы их обстреливают. Но мало уже кто обращает на это внимание. Даже когда парочка шальных "мессеров" обстреливает берег и "юнкерсы" для разнообразия сбрасывают бомбы не на "Красный Октябрь", а на нас, никто особенно не волнуется. Заберутся куда-нибудь под бревна или в щели и выглядывают оттуда. Потом вылезают и, если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу, в воронках от бомб. Раненых ведут в санчасть. И все это спокойно, с перекурами, шуточками.
Примостившись на какой-то тянущейся вдоль берега, неизвестного для меня происхождения толстой трубе, я болтаю ногами. Курю сногсшибательную, захватывающую дух смесь, наслаждаясь последними теплыми солнечными лучами, голубым небом, церквушкой на том берегу, и думаю... нет — пожалуй, ни о чем не думаю. Курю и болтаю ногами.
Подходит Гаркуша, усатый помкомвзвода. Я ему показываю часы, останавливаться что-то стали. Он их рассматривает, встряхивает, говорит, что дрянь цилиндр, и тут же у моих ног, положив на колени дощечку, начинает чинить их. Движения у него поразительно точные, хотя, казалось, часы должны были бы сразу раздавиться и смяться от одного прикосновения здоровенных мозолистых ручищ.
Профессии его довоенной я так и не могу уловить. Ему двадцать шесть лет, а он успел уже и часовщиком, и печником, и водолазом в ЭПРОНе, и даже акробатом в цирке побывать, и три раза жениться, и со всеми тремя регулярно переписываться, хотя у двух из них уже новые мужья.
В разговоре он сдержан, но на вопросы отвечает охотно. От нечего делать я задаю их много. Он отвечает обстоятельно, будто анкету заполняет. От часов не отрывается ни на минуту. Один только раз уходит в туннель проверить саперов.
Потом появляется Астафьев, помощник начальника штаба по оперативной части,— ПНШ-1, по-нашему. Молодой, изящный, с онегинскими бачками и оловянным взглядом. Он чуть—чуть картавит на французский манер. По—видимому, думает, что ему идет. Мы с ним знакомы только два дня, но он уже считает меня своим другом и называет Жоржем. Его же зовут Ипполитом. По-моему, очень удачно. Чем—то неуловимым напоминает он толстовского Ипполита Курагина. Так же недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря папиросу, оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой.
Профессия обязывает, и он уже собирает материалы для будущей истории.
— Вы понимаете, как это интересно, Жорж? — говорит он, изящно прислонившись к трубе и предварительно сдунув с нее пыль.— Как раз сейчас, в разгар событий, нельзя об этом забывать. Именно нам, участникам этих событий, людям культурным и образованным. Пройдут годы, и за какую-нибудь полуистлевшую стрелковую карточку вашего командира взвода будут платить тысячи и рассматривать в лупу. Не правда ли?
Он берет меня за пуговицу и слегка покручивает указательным и большим пальцами.
— И вы мне поможете, Жорж. Правда? Рассчитывать на Абросимова или других, ему подобных, не приходится, вы сами понимаете. Кроме выполнения приказа или захвата какой-нибудь сопки, их ничего не интересует.
И он слегка улыбается с видом человека, ни минуты не сомневающегося, что не согласиться с ним нельзя.
Как сказать, может быть, он и прав. Но меня сейчас это не интересует. Вообще он меня раздражает. И бачки эти, и "Жорж", и розовые ногти, которые он все время чистит перочинным ножом.
Над обрывом появляется вереница желтокрылых "юнкерсов". Скосив на них глаз, Астафьев делает грациозный жест рукой:
— Ну, я пошел... Формы совсем заели. По двадцать штук в день. Совсем обалдели в штадиве. Заходите, Жорж,— и скрывается в своем убежище.
"Юнкерсы" выстраиваются в очередь и пикируют на "Красный Октябрь".
Высунув кончик языка, Гаркуша старательно впихивает пинцетом какое-то колесико в мои часы.
На командирской кухне стучат ножи. На обед, должно быть, котлеты будут.
17
К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Я получаю тысячу штук мин. Пятьсот противотанковых ЯМ-5 — здоровенные шестикилограммовые ящики из необструганных досок, и столько же маленьких противопехотных ПМД-7 с семидесятипятиграммовыми толовыми шашками. Сорок мотков американской проволоки. Лопат — двести, кирок — тридцать. И те и другие дрянные. Особенно лопаты. Железные, гнутся, рукоятки неотесанные.
Все это богатство раскладывается на берегу против входа в наш туннель. Поочередно кто-нибудь из саперов дежурит — на честность соседей трудно положиться.
Утром двадцати лопат и десяти кирок-мотыг мы недосчитываемся. Часовой Тугиев, круглолицый, здоровенный боец, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения.
— Я только оправиться пошел, товарищ лейтенант... Ей-богу... А так никуда...
— Оправиться или не оправиться, нас не касается,— говорит Лисагор, и голос и взгляд у него такие грозные, что пальцы Тугиева начинают еще больше дрожать.— А чтобы к вечеру все было налицо...
Вечером, при проверке, лопат оказывается двести десять, кирок — тридцать пять. Тугиев сияет.
— Вот это воспитание! — весело говорит Лисагор и, собрав на берегу бойцов, читает им длинную нотацию о том, что лопата — та же винтовка и если только, упаси бог, кто—нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, сейчас же трибунал. Бойцы сосредоточенно слушают и вырезывают на рукоятках свои фамилии. Спать ложатся, подложив лопаты под головы.
Я тем временем занимаюсь схемами. Делаю большую карту нашей обороны на кальке, раскрашиваю цветными карандашами и иду к дивизионному инженеру.
Он живет метрах в трехстах-четырехстах от нас, тоже на берегу, в саперном батальоне. Фамилия его Устинов. Капитан. Немолодой уже — под пятьдесят. Очкастый. Вежливый. По всему видать — на фронте впервые. Разговаривая, вертит в пальцах желтый, роскошно отточенный карандаш. Каждую сформулированную мысль фиксирует на бумаге микроскопическим кругленьким почерком — во—первых, во—вторых, в-третьих.
На столе в землянке груда книг: Ушакова "Фортификация", "Укрепление местности" Гербановского, наставления, справочники, уставы, какие-то выпуски Военно-инженерной академии в цветных обложках и даже толстенький синий "Hutte".
Устиновские планы укрепления передовой феноменальны по масштабам, по разнообразию применяемых средств и детальности проработки всего этого разнообразия.
Он вынимает карту, сплошь усеянную разноцветными скобочками, дужками, крестиками, ромбиками, зигзагами. Это даже не карта, а ковер какой-то. Аккуратно развертывает ее на столе.
— Я не стану вам объяснять, насколько это все важно. Вы, я думаю, и сами понимаете. Из истории войн мы с вами великолепно знаем, что в условиях позиционной войны, а именно к такой войне мы сейчас и стремимся,— количество, качество и продуманность инженерных сооружений играют выдающуюся, я бы сказал, даже первостепенную роль.
Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, с нависшей над веками кожей глазами.
— Восемьдесят семь лет назад именно поэтому и стоял Севастополь, что собратья наши — саперы — и тот же Тотлебен сумели создать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий. Французы и англичане и даже сардинцы тоже уделяли этому вопросу громадное внимание. Мы знаем, например, что перед Малаховым курганом...
Он подробно, с целой кучей цифр, рассказывает о севастопольских укреплениях, затем перескакивает на русско-японскую войну, на Верден, на знаменитые проволочные заграждения под Каховкой.
— Как видите,— он аккуратно прячет схемы расположения севастопольских ретраншементов и апрошей в папку с надписью "Исторические примеры",— работы у нас непочатый край. И чем скорее мы сможем это осуществить, тем лучше.
Он пишет на листочке бумаги цифру "I" и обводит ее кружком.
— Это первое. Второе. Покорнейше буду вас просить ежедневно к семи ноль—ноль доставлять мне донесения о проделанных за ночь работах: А — вашими саперами, В — дивизионными саперами, С — армейскими, если будут, а я надеюсь, что будут, саперами, О — стрелковыми подразделениями. Кроме того...
Бумажка опять испещряется цифрами — римскими, арабскими, в кружочках, дужках, квадратиках или совсем без оных.
Прощаясь, он протягивает узкую руку с подагрическими вздутиями в суставах.
— Особенно прошу вас не забывать каждого четырнадцатого и двадцать девятого присылать формы — 1, 1-6, 13 и 14. И месячный отчет — к тридцатому. Даже лучше тоже к двадцать девятому. И еженедельно сводную нарастающую таблицу проделанных работ. Это очень важно...
Ночью за банкой рыбных консервов Лисагор весело и громко хохочет.
— Ну, лейтенант, пропал ты совсем. Целую проектную контору открывать надо. Тут за три дня и прочесть—то не успеешь, что он написал. А с этими лопатами и шестнадцатью саперами за три года не сделаешь. Ты не спрашивал — он не из Фрунзе? Не из Инженерной академии приехал?
18
Дни идут.
Стреляют пушки. Маленькие, короткостволые, полковые — прямо в лоб, в упор с передовой. Чуть побольше — дивизионные — с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие — с длинными, задранными из-под сетей хоботами — с той стороны, из—за Волги. Заговорили и тяжелые — двухсоттрехмиллиметровые. Их возят на тракторах: ствол — отдельно, лафет — отдельно. Приехавший с той стороны платить жалованье начфин, симпатичный, подвижной и всем интересующийся Лазарь,— его все в полку так и называют,— говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка.
Немцы по—прежнему увлекаются минометами. Бьют из "ишаков" по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы.
Гудят самолеты — немецкие днем, наши "кукурузники" — ночью. Правда, у немцев тоже появились "ночники", и теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. "За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько—то, потери такие-то, за это время разрушено то—то и то—то..."
На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера, из хворых, крутят деревянный барабан, изготовляют спирали Бруно — нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые "лодыри" — портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Минированием занимается, конечно, Гаркуша и командир второго отделения Агнивцев, энергичный, исполнительный, но не любимый бойцами за грубость.
Лисагор по—прежнему деятелен и руглив. У него всегда какое—то неотложное задание командира полка: то склад обозно-вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водкой от него несет, как из бочки, но держится, в общем, хорошо.
Днем мы отдыхаем, оборудуем блиндажи, конопатим лодки. С первыми звездами собираем лодки и кирки и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало. Дорогу освещают ракеты.
После работы, покуривая махорку, сидим с Ширяевым и Карнауховым,— во втором батальоне я чаще всего бываю,— в тесном, жарко натопленном блиндаже, ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы, и Карнаухов систематически обыгрывает меня. Я плохой шахматист.
Утром, чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утра уже холодные. Часов до десяти не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка.
На языке сводок все это, вместе взятое, называется:
"Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции". Слова "ожесточенный" и "тяжелый" дней десять уже не попадаются в сводке, хотя немцы по—прежнему бомбят с утра до вечера, и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова.
Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и с зимнего обмундирования, которое нам теперь выдают. Ушанки, телогрейки, стеганые брюки, суконные портянки, меховые рукавицы — мохнатые, кроличьи. На днях, говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки с пилоток на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок — не ходим уже мыться на Волгу и начинаем считать, сколько до весны осталось.
Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные и заклеенные, с обязательными "Сов. секретно" и "Только Керженцеву" наверху в правом углу, они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям — смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины.
Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер, устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым, звонким голосом:
— Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя. С Валегой они дружны и, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.
— Мой все пишут, все пишут,— сквозь дверь доносится голос связного.— Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.
— А мой нет, писать не любят,— басит Валега.— Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки. Все прочтут. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.
— Ну, уж не больше моего,— обижается связной.— Видал, сколько у нас на столе книжек лежит? В одной, я сам смотрел, пятьсот страниц. И все меленько, меленько, без очков и не разберешь.
— А на передовой твой бывает? — спрашивает вдруг Валега.
— Куда уж им. Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.
Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.
Иногда приходит к нам Чумак, он живет рядом, в десяти шагах, приносит с собой карты, и мы дуемся в "очко". Иногда мы с Лисагором к нему ходим — слушать патефон.
Время от времени приезжает с того берега Лазарь, начфин. Живет у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам устраивается у печки. Лазарь рассказывает левобережные новости — нас, мол, на формировку собираются отводить. Не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не отведут, но мы делаем вид, что верим, верить куда приятнее, чем не верить, и строим планы мирной жизни в Красноуфимске или Томске.
Один раз в расположение нашего полка падает "мессершмитт". Кто его подбил — неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: "Метким ружейно—пулеметным огнем подразделений нашего батальона сбит самолет противника". Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрел и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после падения Чумак приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок плексигласа. Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками гаркушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный, с металлическим ободком мундштук.
19
Шестого вечером Карнаухов звонит мне по телефону:
— Фрицы не лезут. Скучаю. А у меня котлеты сегодня. И праздник завтра. Приходи.
Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я, Ширяев, потом Фарбер.
— Помнишь,— говорит Ширяев,— как мы с тобой под Купянском тогда пили? В последнюю ночь... У меня в подвале. И картошечкой жареной закусывали. Филипп мой мастер был картошку жарить. Помнишь Филиппа? Потерял я его. Под Кантемировкой. Неплохой парнишка был...— Он вертит кружку в руках.
— О чем ты думал тогда? А? Юрка? Когда мы на берегу сидели? Полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели. О чем ты тогда думал?
— Да как тебе сказать...
— Можешь и не говорить. Знаю. Обидно было. Ужасно обидно. Правда? А потом в каком—то селе, помнишь, старик водой нас поил? Воевать, говорил, не хотите. Здоровые, а не хотите. И мы не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого.
Он вдруг останавливается, и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежали.
— А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже... Рассыпалось... Ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже,— его батальон переправу там налаживал,— порядки стали наводить. Мост понтонный, хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки. Машины в одиночку, по брюхо в воде проходили. Наладили кое-как. Построили очередь. А тут вдруг — на "виллисе" майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста на "виллисе" своем добрался, а там стал во весь рост и заорал на меня: "Какого черта не пускаешь! Танки немецкие в трех километрах! А тут порядки наводишь!" Я, знаешь, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожа красная, глаза вылупил. Ну, думаю, раз уж майоры такое говорят — значит, плохо. А машины уже лезут друг на друга. Капитана моего, вижу, с ног сшибли. И черт его знает, помутнение у меня какое—то случилось. Вскочил на "виллиса" и — хрясь! — раз, другой, третий, прямо по морде его паршивой. Вырвал пистолет и все восемь штук всадил... А танков, оказывается, и в помине не было. И шофер куда-то девался. Может, провокаторы? А?
— Может,— отвечаю я.
Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается.
— А все—таки воля у него какая...— говорит Ширяев, не подымая глаз.— Ей-богу...
— У кого? — не понимаю я.
— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только! В сорок первом и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы уже стоим? Третий месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими "юнкерсами" и "хейнкелями". И это после прорыва, такого прорыва!.. После июльских дней. Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. Мы вот каких—нибудь пятьсот-шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать надо. Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевает или нет?
— Не знаю. Думаю, все-таки успевает.
— Успевает, думаешь? Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь, а не понравится что, вылезешь, матюком покроешь, ну иногда там пистолетом пригрозишь... Да и всех наперечет знаешь,— и каждый бугорок, каждую кочку сам лично облазишь. А у него что? Карта? А на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи — где наступают, где стоят, где отступают. "Нет, не завидую я ему. Нисколечко не завидую..." — Ширяев встает.— Сыграй-ка чего-нибудь, Карнаухов.
Карнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком—то из разрушенных домов.
— Что-нибудь такое... знаешь... чтоб за душу...
Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги.
— Как там на передовой, Лешка? Спокойно?
— Все спокойно, товарищ старший лейтенант,— нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает Лешка.— В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий.
— Я этому старшине покажу когда-нибудь, где раки зимуют. Если придет ночью — разбудишь меня. Ну, давай, Карнаухов.
Карнаухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает глаза. Песни все русские, задумчивые, многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови. Голубые глаза. Неглупые, спокойные. И всегда такие. С какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались.
Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить. О жене, детях, интегралах, бесконечно малых величинах? Или вообще ничего на свете его не интересует? Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает,— с таким отсутствующим, скучающим видом покуривает он под бомбежкой.
Карнаухов устает, или ему просто надоедает петь. Вешает гитару на гвоздь. Некоторое время мы сидим молча. Ширяев приподымается на одном локте.
— Фарбер... Ты и до войны таким был?
Фарбер подымает голову.
— Каким таким?
— Да вот таким, какой ты сейчас.
— А какой я сейчас?
— Да черт его знает какой... Не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь... Ты вот на инженера нашего посмотри. Тоже ведь с высшим образованием.
Фарбер чуть-чуть улыбается:
— Я не совсем понимаю связь между вином, и женщинами, и высшим образованием.
— Дело не в связи.— Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги.— Карнаухов тихий, скромный парень — ты не слушай, Карнаухов,— а и то как загнет, так только держись.
— Да, в этой области я не силен,— отвечает Фарбер. Ширяев смеется:
— Ты не подумай, что я хочу тебя испортить. Или ругаться научить. Упаси бог. Просто я не понимаю, как это могло получиться... А плавать ты умееешь?
— Плавать? Нет, не умею плавать.
— А на велосипеде?
— И на велосипеде не умею.
— Ну, а в морду давал кому-нибудь?
— Да что ты пристал к человеку,— вступается Карнаухов.— Ты с Чумаком на эту тему поговори. Он-то уж тебе порасскажет.
— В морду давал,— спокойно говорит Фарбер и встает.
— Давал? Кому?
— Я пойду,— не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель.
— Нет, кому ты давал?
— Неинтересно... Разрешите идти.
И уходит.
— Странный парень,— говорит Ширяев и встает. Карнаухов улыбается. У него, как у ребенка, две ямочки на щеках.
— Вчера я заходил к нему. С берега шел. Сидит и пишет. Письмо, должно быть. Четвертую страницу тетрадочную кончал, мелким-мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть.
Ширяев еле заметно подмигивает мне.
— А может, то не письмо?
— А что же?
— Может, стихи.
Карнаухов краснеет.
— Ты чего краснеешь?
— Я не краснею,— и краснеет еще больше. Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз с Карнаухова.
— Ну, а твои как?
— Что — мои?
— Стихи, конечно.
— Какие стихи?
— Думаешь, не знаем? В тетрадке которые. В клеенчатой. Как там у него, Керженцев, не помнишь?
Карнаухов приперт к стенке.
— Да это так... От нечего делать.
— От нечего делать... Все вы так — от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать.
Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстаемся — он направо, я налево.
— А стихи все-таки прочитешь,— говорю я ему, прощаясь.
— Когда-нибудь...— неопределенно как-то отвечает он и скрывается в темноте.
20
Ночь темная. Звезд не видно. Кое-где только мутные, расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливают на бугре.
Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке.
Около разрушенного мостка кто—то сидит. Вспыхивает огонек папиросы.
— Кой черт курит?
— А отсюда все равно не видно,— отвечает из темноты глуховатый голос.
Голос Фарбера.
— Вы что здесь делаете?
— Ничего... Воздухом дышу.
Я подхожу ближе.
— Воздухом дышите?
— Воздухом дышу.
Я зачем—то сажусь. Фарбер больше ничего не говорит. Сидит и курит. Я тоже закуриваю. Молчим. Я не знаю, о чем можно с ним говорить.
— Сейчас концерт будет,— говорит вдруг Фарбер.
— Не думаю,— отвечаю я.— "Ишаки" у них уже два дня почему-то молчат.
— Нет, я не о таком, а о настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали.
— Из Москвы, что ли?
— Должно быть, из Москвы.
Проходят бойцы. Человек десять, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего по четыре батальонные мины зараз нести. За ночь они сделают шесть или восемь ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.
— Как дела в роте? — спрашиваю я.
— Ничего,— равнодушно отвечает Фарбер.— Без особых перемен.
— Сколько человек у вас теперь?
— Да всё столько же. Больше восемнадцати-двадцати никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.
— А пополнение?
— Да что пополнение...
— Юнцы желторотые?
— Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.
— М-да...— говорю я.— Невеселая штука война...
Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает цигарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое, с впалыми щеками лицо, костистый нос, складки у рта.
— Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука? — спрашивает Фарбер. Он никак не может прикурить — бычок маленький, высыпается.
— Жизнь или война? — спрашиваю я.
— Именно жизнь.
— Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем... собственно говоря, вы...
— Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.
— Не рано ли?
— Конечно, рановато, но кое-что все-таки можно подытожить.
Он медленно вдавливает окурок каблуком в землю. Огонек долго еще тлеет у его ног.
— Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?
— Ну?
— Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?
— Страусовский?
— Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.
— Расшифруйте.
— Я говорю о войне. О нас и о войне. Под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче — вы знали, что будет война?
— Пожалуй, знал.
— Не пожалуй, а знали. Более того — знали, что и сами будете в ней участвовать. Он несколько раз глубоко затягивается и с шумом выдыхает дым.
— До войны вы были командиром запаса. Так ведь? ВУС—34... Высшая вневойсковая подготовка или что-нибудь в этом роде.
— ВУС—34... ВВП... Командир взвода запаса. Ни разу я еще не слыхал, чтоб Фарбер так много говорил.
— Раз в неделю у вас был военный день. Вы все старательно пропускали его. Летом — лагеря, муштра. Направо, налево, кругом, шагом марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы, сколько до обеда осталось. Думаю, что я мало ошибаюсь.
— Откровенно говоря, мало.
— Вот тут-то собака и зарыта... На других мы с вами полагались. Стояли во время первомайских парадов на тротуаре, ручки в брючки, и смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов в шеренгах... Ах, как здорово, ах, какая мощь! Вот и все, о чем мы тогда думали. Ведь правда? А о том, что и нам когда-то придется шагать, и не по асфальту, а по пыльной дороге, с мешком за плечами, что от нас будет зависеть жизнь — ну, не сотен, а хотя бы десятков людей... Разве думали мы тогда об этом?
Фарбер говорит медленно, даже лениво, с паузами, затягиваясь после каждой фразы. Внешне он совершенно спокоен. Но по частым затяжкам, по неравномерным паузам, по освещаемым цигаркой сдвинутым бровям чувствуется, что ему давно уже хотелось обо всем этом поговорить, но то ли не было собеседника, то ли случая подходящего, то ли времени, то ли не знаю чего. И мне ясно, что он волнуется, но, как у многих людей его типа, замкнутых и молчаливых, волнение это почти не выражается внешне, а, наоборот, делает его еще более сдержанным.
Я молчу. Слушаю. Курю. Фарбер продолжает:
— На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги тридцать молодцов — плотников, слесарей, кузнецов, трактористов — и говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.
— В саперном, что ли?
— В саперном.
— А вы разве сапер?
— Сапер. Вернее, был сапером.
— А почему же вдруг стрелком стали?
— Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.
— А я и не знал. Коллега, значит.
— Коллега,— улыбается Фарбер и продолжает: — Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании: подрывное дело — четыре часа, фортификация — четыре часа, дороги и мосты — четыре часа. А они стоят. Переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои "сидора", сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я им могу сказать? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе, что окопы бывают полного и неполного профиля и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру...
Он делает паузу. Ищет в кармане коробку с табаком. Я раньше не замечал, что он так много курит — одну за другой.
— А кто во всем этом виноват? Кто виноват? Дядя — как говорит мой старшина? Нет, не дядя... Я сам виноват. Мне просто было до войны неинтересно заниматься военным делом. На лагерные сборы смотрел как на необходимую — так уже заведено, ничего не поделаешь,— но крайне неприятную повинность. Именно повинность. Это, видите ли, не мое призвание. Мое дело, мол, математика и тому подобное. Наука...
Фарбер шарит по карманам.
— Чем прикуривать будем? — говорит он.— У меня спички кончились.
— И бычок погас?
— Погас.
— Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.
— Придется.
И мы ждем. Помолчав, Фарбер продолжает все тем же спокойным усталым голосом:
— Четыре месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал. А утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. Бр-р... От одного воспоминания в дрожь бросает.
Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего "кресала". Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.
Фарбер поворачивает голову.
— Нытик? Да? — говорит он совсем тихо. До сих пор он говорил, не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас в темноте я чувствую на себе взгляд его близоруких глаз.
— Кто нытик? — спрашиваю я.
— Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит чего-то, жалуется. Правда?
Я не сразу нахожу, что ответить. Он во многом прав. Но стоит ли вообще говорить о том, что прошло. Анализировать прошлое, вернее — дурное в прошлом, имеет смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее.
— По—моему, трудно жить, если все время думать о своих прошлых ошибках и ругать себя за это. Руганью не поможешь. А винтовку, я думаю, вы уже знаете и научить бойца с нею обращаться тоже сможете.
Фарбер смеется:
— Пожалуй, вы правы.— Пауза.— Но вы знаете... Если б я, например, встре— тился до войны, ну, хотя бы с Ширяевым, я никогда бы не поверил, что буду ему завидовать.
— А вы завидуете?
— Завидую.— Опять пауза.— Я неплохо разбираюсь в вопросах высшей математики. Восемь лет все-таки проучился. Но такая вот элементарная проблема, как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов, для меня почти непреодолимое препятствие.
— Вы склонны к самокритике,— говорю я.
— Возможно. Думаю, что и вы этим занимаетесь, только не говорите.
— Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву?
— Почему?..
Он встает, делает несколько шагов, опять садится. Кругом удивительно тихо. Где-то только очень далеко, за "Красным Октябрем", изредка, без всякого увлечения, пофыркивает пулемет.
— Потому что, смотря на него, я особенно остро чувствую свою неполноценность. Вам кажется это смешным. Но это так. Он человек простой, цельный, ему ничего не стоит спросить, умею ли я плавать или кататься на велосипеде. Он не чувствует, что этими вопросами попадает мне не в бровь, а в глаз. Ведь я соврал, когда говорил, что давал в физиономию кому—то. Никому я никогда не давал. Я не любил драк, не любил физических упражнений. А теперь вот...
Он вдруг умолкает. Посапывает носом. Это, очевидно, у него нервное. Постепенно я начинаю его понимать. Понимать эту сдержанность, замкнутость, молчаливость.
— Ничего,— говорю я, стараясь придумать что-нибудь утешительное. Я вспоминаю, как кричал на него, когда был еще комбатом.— Всем тяжело на войне.
— Господи боже мой! Неужели вы так меня поняли? — Голос его даже вздрагивает и срывается от волнения.— Ведь мне предлагали совсем не плохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите — всем тяжело на войне.
Я чувствую, что действительно сказал неудачно.
— У вас жена есть? — спрашиваю я.
— Есть. А что?
— Да ничего. Просто интересуюсь.
— Есть.
— И дети есть?
— Детей нет.
— А сколько вам лет?
— Двадцать восемь.
— Двадцать восемь. Мне тоже двадцать восемь. А друзья у вас были?
— Были, но...— Он останавливается.
— Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета. Просто... Одиноки вы как-то, по-моему, очень.
— Ах, вы об этом...
— Об этом. Мы с вами скоро уже полтора месяца знакомы. А впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили.
— Да, сегодня.
— Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.
— Возможно...— И опять помолчав: — Я вообще туго схожусь с людьми. Или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, мало интересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею, командир, в общем, неважный.
— Напрасно вы так думаете.
— Вы у Ширяева спросите.
— Ширяев вовсе не плохо к вам относится.
— Дело не в отношении. Впрочем, все это мало интересно.
— А по—моему, интересно. Скажу вам откровенно, когда я в первый раз вас увидел,— помните, там, на берегу, ночью, после высадки?
Фарбер останавливает меня движением руки.
— Стойте! — и касается рукой колена.— Слышите? Я прислушиваюсь. С той стороны Волги торжественно, то удаляясь, то приближаясь, перебиваемые ветром, медленно плывут хрипловатые звуки флейт и скрипок. Плывут над рекой, над разбитым, молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.
— Узнаете?
— Что—то знакомое... Страшно знакомое, но... Не Чайковский?
— Чайковский. Andante cantabile из Пятой симфонии. Вторая часть.
Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет — назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.
— Вот это место...— говорит Фарбер, опять прикасаясь рукой к моему колену.— Точно вскрик. Правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. Вы любите Пятую?
— Люблю.
— Я тоже... Даже больше, чем Шестую. Хотя Шестая считается самой, так сказать... Сейчас вальс будет. Давайте помолчим.
И мы молчим. До конца уже молчим. Я опять вспоминаю Киев, Царский сад, каштаны, липы, Люсю, красные, яркие цветы, дирижера с чем-то белым в петлице...
Потом прилетает бомбардировщик, тяжелый, ночной, трехмоторный. Его у нас почему-то называют "туберкулез".
— Странно, правда? — говорит Фарбер, подымаясь.
— Что странно?
— Все это... Чайковский, шинель эта, "туберкулез". Мы встаем и идем по направлению фарберовской землянки. Бомбардировщик топчется на одном месте. Из-за Мамаева протягиваются щупальца прожектора.
Я на берег не иду. Остаюсь ночевать у Фарбера.
21
Седьмого вечером приходят газеты с докладом Сталина. Мы его уже давно ждем. По радио ничего разобрать не удается — трещит эфир. Только — "и на нашей улице будет праздник" — разобрали.
Фразу эту обсуждают во всех землянках и траншеях.
— Будет наступление,— авторитетно заявляет Лисагор; он обо всем очень авторитетно говорит.— Вот увидишь. Не зря Лазарь говорил прошлый раз,— помнишь? — что какие-то дивизии по ночам идут. Ты их видишь? Нет. И я не вижу. Вот и понимай...
Сталин выступал шестого ноября.
Седьмого союзники высаживаются в Алжире и Оране. Десятого вступают в Тунис и Касабланку.
Одиннадцатого ноября в семь часов утра военные действия в Северной Африке прекращаются. Подписывается соглашение между Дарланом и Эйзенхауэром. В тот же день и тот же час германские войска по приказу Гитлера пересекают демаркационную линию у Шалонсюр Саон и продвигаются к Лиону. В пятнадцать часов итальянские войска вступают в Ниццу. Двенадцатого ноября немцы занимают Марсель и высаживаются в Тунисе.
Тринадцатого же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. Сорок два "Ю-87" в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии в районе Красной Слободы на левом берегу Волги. И улетают.
В воздухе воцаряется непонятная, непривычная, совершенно удивительная тишина.
После восьмидесяти двух дней непроходимого грохота и дыма, после сплошной, с семи утра до семи вечера, бомбежки наступает что-то непонятное. Исчезает облако над "Красным Октябрем". Не надо поминутно задирать голову и искать в безоблачном небе противные треугольники. Только "рама" с прежней точностью появляется по утрам и перед заходом солнца, да "мессеры" иногда пронесутся со звоном над головой и почти сразу же скроются.
— Ясно — немцы выдохлись. И в окопах идут оживленные дискуссии — отчего, почему, и можно ли считать африканские события вторым фронтом. Политработники нарасхват. Полковой агитатор наш, веселый, подвижной, всегда возбужденный Сенечка Лозовой, прямо с ног сбивается. Почти не появляется на берегу, только забежит на минутку в штаб радио послушать и опять назад. А там, на передовой, только и слышно: "Сенечка, сюда!", "Сенечка, к нам!" Его там все и называют — "Сенечка". И бойцы и командиры. Комиссар даже отчитал его как-то:
— Что же это такое, Лозовой? Ты лейтенант, а тебя все — "Сенечка". Не годится так.
А он только улыбается смущенно.
— Ну, что я могу поделать. Привыкли. Я уж сколько раз говорил. А они забывают... И я забываю.
Так и осталось за ним — Сенечка. Комиссар рукой махнул.
— Работает как дьявол... Ну как на него рассердишься?
Работает Сенечка действительно как дьявол. Инициативы и фантазии в нем столько, что не поймешь, где она у него, такого маленького и щупленького, помещается. Одно время все с трубой возился. Сделали ему мои саперы здоровенный рупор из жести, и он целыми днями через этот рупор, вместе с переводчиком, немцев агитировал. Немцы злились, стреляли по ним, а они трубу под мышку — ив другое место. Потом листовками увлекся и карикатурами на Гитлера. Совсем не плохо они у него получались. Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. Когда они кончились, он что-то долго соображал с консервными банками, специальный какой-то самострел из резины делал. Но из этой затеи ничего не вышло, банки до немцев не долетали. Принялся он тогда за чучело. После него во всех дивизиях такие чучела стали делать. Это очень забавляло бойцов. Сделал из тряпок и немецкого обмундирования некое подобие Гитлера с усиками и чубом из выкрашенной пакли, навесил на него табличку: "Стреляйте в меня!" — и вместе с разведчиками как—то ночью поставил его на "ничейной" земле, между нами и немцами. Те рассвирепели, целый день из пулемета по своему фюреру стреляли, а ночью украли чучело. Украсть-то украли, но трех человек все-таки потеряли. Бойцы наши животы надрывали. "Ай да Сенечка!" Очень любили его бойцы.
К сожалению, вскоре его у нас забрали. Как лучшего в дивизии агитатора послали в Москву учиться. Долго ждали от него письма, а когда оно наконец пришло, целый день на КП первого батальона — он там чаще всего бывал — строчили ответ. Текста вышло не больше двух страничек, и то больше вопросов ("а у нас все по—прежнему, воюем понемножку"), а подписи еле-еле на четырех страницах уместились: что-то около ста подписей получилось. Долго и хорошо вспоминали о нем бойцы. — И когда же эта учеба его кончится? — спрашивали они и все мечтали, что Сенечка обратно к нам в полк вернется. Но он так и не вернулся, на Северный фронт, кажется, попал.
22
Девятнадцатого ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже — вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко.
На этот раз Валега и Лисагор тоже что-то затевают. Валега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся, без крыши хибарку на берегу Волги, выдает чистое, даже глаженое белье, потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту — озабоченный, с таинственными свертками под мышкой, кого—то ищет. Лисагор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь.
Под вечер я ухожу к Устинову. Он уж третий день вызывает меня к себе. Сначала просто "предлагает", потом "приказывает" и, наконец, "в последний раз приказываю во избежание неприятностей". Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схемы расположения предполагаемых НП. Меня ожидает длинная и нудная нотация, пересыпанная историческими примерами, верденами, порт-артурами, тотлебенами и Клаузевицами. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю.
Встречает Устинов меня необычайно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская муштра, на них все сидит мешком, гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же, наоборот, вся эта внешняя сторона военной жизни очень нравится — они с удовольствием, даже с каким—то аппетитом козыряют, поминутно вставляют в разговор "товарищ лейтенант", "товарищ капитан", щеголяют знанием устава и марок немецких и наших самолетов, прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят — "полковая летит" или "из ста пятидесяти двух начали". О себе иначе не говорят, как "мы — фронтовики, у нас на фронте".
Устинов относится ко второй категории. Чувствуется, что он слегка гордится своей четкостью и буквальным следованием всем правилам устава. И выходит это у него совсем не плохо, несмотря на преклонный возраст, очки и любовь к писанию. С кем бы он ни здоровался, он обязательно встанет, разговаривая со старшим по званию, держит руки по швам.
Сейчас он встречает меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержанно: замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, которым он указывает мне на табуретку,— все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами.
Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он подымает глаза и взглядывает на меня поверх очков.
— Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?
— Каких событий?
— Как? Вы ничего не знаете? — Брови его недоумевающе подымаются.— КСП вам ничего не сказал? — "КСП" на его излюбленном языке донесений — это "командир стрелкового полка", в данном случае майор Бородин.
— Нет, не говорил.
Брови медленно, точно колеблясь, опускаются и занимают свое обычное поло— жение. Пальцы крутят длинный, аккуратно отточенный карандаш с наконечником.
— Сегодня в шесть ноль-ноль мы переходим в наступление.
Карандаш рисует на бумажке кружок и, подчеркивая значительность фразы, ставит посредине точку.
— Какое наступление?
— Наступление по всему фронту,— медленно, смакуя каждое слово, произносит он.— И наше в том числе. Вы понимаете, что это значит?
Пока что мне понятно только одно: до начала наступления осталось десять часов, и обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам, первый за последние две недели, безнадежно срывается.
— Задача нашей дивизии ограничена, но серьезна,— продолжает он,— овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В четыре тридцать начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит, весь левый берег. В вашем распоряжении — сейчас семь минут девятого — весьма ограниченный срок, каких-нибудь десять часов. Полку вашему придана рота саперного батальона. Вам надлежит каждому стрелковому батальону придать по одному взводу этой роты с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях.
Лежащий перед ним лист бумаги понемногу заполняется ровными, аккуратными строчками.
— Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена, каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному,— вы понимаете меня? — не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесения о проделанной работе присылайте каждые три часа специальным посыльным.
Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты разбивая все мое время. Я молча описываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию, чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки.
Я слушаю, записываю, поглядываю на часы. В девять ухожу. С командиром приданной мне второй роты — это та самая рота, которая у меня постоянно работает,— договариваюсь, что придут они ко мне в два часа ночи.
Лисагор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.
— Как тебе это нравится? А? Лейтенант?
От волнения он захлебывается, не может усидеть на месте, вскакивает, начинает расхаживать по блиндажу взад и вперед.
— Окопались мы, мин наставили видимо-невидимо, сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет — мало этого! Делай проходы, убирай Бруно... Все, вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?
Меня начинает раздражать Лисагор.
— Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.
Лисагор не унимается. В голосе у него появляется даже жалобная нотка.
— Но обидно же, господи, обидно же! Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит!
Стол действительно неузнаваем. Посредине четыре уже раскупоренные поллитровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья "Пушкин", шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения — дымящееся в котелке, заливающее всю землянку ароматом мясо.
— Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца Валега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое... Ну, что теперь делать? На Новый год оставлять? Так, что ли?
Что и говорить — куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь — оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления, почти полтора года, шестнадцать месяцев ждали... Вот и пришел он наконец, этот день...
Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это в конце концов не важно. Важно, что заяц. Настроение несколько улучшается. Лисагор даже подмигивает.
— Торопись, лейтенант, пока не вызвали. Два раза уже за тобой присылали.
Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов.
Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться — комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Чумак в неизменной своей бескозырке, расстегнутый, сияющий тельняшкой.
— Ну что, инженер, сорвалось?
— Сорвалось...
— Ладно. В буфет спрячь. Вернемся — поможем,— и весело хохочет, сверкая глазами.
Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое КП командиру полка сделать. Старое не годится — баков не видно. Я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты.
— Смотри, инженер, не подкачай,— попыхивает трубкой Бородин,— картошек своих вы там на передовой понасажали, кроме вас, никто и не разберет. Поподрываются еще наши. А каждый человек на счету, сам понимаешь...
Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть. Трубка поминутно гаснет, а спички никак не зажигаются — коробки никуда не годятся.
— А НП рельсами покрой. И печка чтоб была. Опять ревматизмы мои заговорили. В пять ноль—ноль — минута в минуту буду. Если не кончишь, ноги повырываю. Понял? Давай нажимай.
Я ухожу.
Лисагор сидит и меняет портянку.
— Ну?
— Бери отделение, и к пяти ноль—ноль чтоб новое НП было готово.
— Новое? К пяти? Обалдели они...
— Обалдели не обалдели, а в твоем распоряжении семь часов.
Лисагор в сердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывается ушко.
— На охоту ехать — собак кормить! Говорил я, что из того НП не будет баков видно. Ничего, говорят, баки не нам, а сорок пятому дадут. А нам левее. Вот тебе и левее.
— Ладно. Ворчать завтра будешь, а сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?
— Всё понятно. Чего же непонятно. И рельсы, конечно, велел положить? Да?
— И рельсы положишь, и печку поставишь. Трубу только в нашу сторону пустишь. Амбразуру уменьши, а левую совсем можешь заделать.
— А дощечками тесаными не приказал обшивать?
— Твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь. Возьмешь с собой Новохатько с отделением.
— У него куриная слепота.
— Для НП сойдет. Гаркуша с Агнивцевым пойдут проходы делать.
— Пускай дома тогда сидит, лопаты стережет.
— Как знаешь. К пяти чтоб НП был готов.
Лисагор натягивает второй сапог. Кряхтит.
— И кто войну эту придумал. Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь солдатская...
И, запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит.
Я остаюсь ждать дивизионных саперов.
23
К четырем часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что—то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край.
Обхожу батальоны. Агнивцев и Гаркуша кончили с проходами, греются в блиндажах, курят. Иду на НП. Еще издали слышу шепот Лисагора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в пятидесяти, поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади.
Я забираюсь в блиндаж. Там уже связисты и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох, маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку.
Минут через десять вваливается Лисагор. Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины.
— Смотри на часы, инженер.
— Двадцать минут пятого.
— Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?
Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.
— Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо, и хоть бы хны. Знаешь, откуда таскали? Почти от самого мясокомбината. Порвали их толом на части — и на собственных плечиках. На, пощупай, как подушка стало. Курортик что надо — Сочи, Мацеста...
— Накатов сколько положил?
— Рельсов два, да старый еще, деревянный был.
— Бугор получился?
— Да тут их знаешь сколько, бугров? Что ни шаг, то землянка, а что ни землянка, то бугор.
— Раненых нет?
— Тугиевская шинель. Три дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой!.. Началось, что ли?
Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. Четыре тридцать.
— Па-а-а щелям! — кричит Лисагор.— Прицел ноль-пять, по своим опять. Крикни там, связист, саперам, чтоб сюда залазили.
Саперы втискиваются в блиндаж. Закуривают, цепляются друг за друга винтовками и лопатами.
— А где Тугиев?
— Там еще. Наверху.
— Видал? Песочком посыпает. Красоту наводит. Давай его сюда. Седельников. Снарядом голову еще сорвет.
Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля.
Лисагор толкает меня в бок.
— Ну что? Людей домой пошлем? Пока не поздно. А то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонит.
Людей, пожалуй, действительно надо отсылать, пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем.
Только они уходят, как являются майор, Абросимов и начальник разведки. Майор тяжело дышит: сердце, вероятно, не в порядке.
— Ну как, инженер, не угробят нас здесь? — добродушно собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой.
— Думаю, нет, товарищ майор.
— Опять — думаю... Штрафовать буду. По пятерке за каждое "думаю". Рельсы положил?
— Положил. В два ряда.
Подходит Абросимов. Губы сжаты. Глаза сощурены.
— А где Лисагор твой?
— Отдыхать пошел. С людьми.
— Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать...
Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их вовремя на берег отправил.
— А остальные где?
— По батальонам.
— Что делают?
— Проходы.
— Проверял?
— Проверял.
— А дивизионные что делают?
— В разведке.
— Почему вчера не разведали?
— Потому что сегодня приказ получили.
Абросимов жует губами. Глаза его, холодные и острые, смотрят неприветли— во. Левый уголок рта слегка подергивается.
— Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет.
Мне не нравится его тон. Я отвечаю, что проходы отмечаются колышками и комбаты поставлены в известность. Абросимов больше ничего не говорит. Звонит по телефону в первый батальон.
Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Привязывают проволокой.
— Хорошо работают,— говорит майор. Где—то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет.
— Что и говорить, хорошо...— принужденно улыбается начальник разведки.— Вчера один ста двадцати двух чуть к самому Пожарскому, начальнику артиллерии, в блиндаж не залетел.
Майор улыбается. Я тоже. Но ощущение вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в пятидесяти от нас, для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный.
Мы сидим и курим. В такие минуты трудно не курить.
Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли восемнадцать мин-эсок. Вывинтили взрыватели. Мины оставили на месте. Уходит.
Абросимов не отрывается от трубки.
Неужели немцы удержатся после такой подготовки.
Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я расстегиваюсь.
— Брось подкидывать,— говорит связисту майор.— Рассветает, по дыму стрелять будут.
Связист отползает в свой угол.
К шести канонада утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти. Без десяти. Без пяти.
Абросимов прилип к трубке.
— Приготовиться!
Последние разрозненные выстрелы. Затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали.
— Пошли! — кричит в трубку Абросимов.
Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие—то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее — кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны.
— Пошли, ядри вашу бабушку! — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается.
Левее меня майор. Тоже у амбразуры. Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения, должно быть. Отсутствие дела страшнее всего.
Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут... Ура-а-а-а! Прямо на баки... А-а-а-а...
Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет. Левее.
Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелется по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут. Другие лежат. Бегущих больше нет.
Майор сопит трубкой. Покашливает.
— Ни черта не подавили... Ни черта...
Абросимов звонит во второй, в третий батальоны. Та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять.
Майор отходит от амбразуры. Лицо у него какое-то отекшее, усталое.
— Полтора часа громыхали, и не взять... Живучие, дьяволы.
Абросимов так и стоит с трубкой у уха, нога на ящике, перебирает нервными, сухими пальцами провод.
— Глянь—ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?
Смотрю. Человек двенадцать лежит. Должно быть, убитые. Руки, ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь.
— Керженцев,— совсем тихо говорит майор.
— Я вас слушаю.
— Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. К Ширяеву. Помоги...— и посопев трубкой: — Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.
Я поворачиваюсь.
— Вы что, к Ширяеву его посылаете? — спрашивает Абросимов, не отходя от телефона.
— Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.
— Возьмем! — неестественно как-то взвизгивает Абросимов и бросает трубку. Связист ловко хватает ее на лету и пристраивает к голове.— И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон, организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает.
Обычно спокойные, холодные глаза его сейчас круглы и налиты кровью. Губа все дрожит.
— Подыми их, подыми! Залежались!
— Да ты не кипятись, Абросимов,— спокойно говорит майор и машет мне рукой — иди, мол.
Я ухожу. До ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет. На передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку — ту самую, где тогда сидели в окружении.
— Как дела?
Ширяев машет рукой.
— Дела... Половины батальона уже нет.
— Перебили?
— А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь!
— А что?
У Ширяева на шее надуваются жилы.
— А то, что майор свое, а Абросимов свое... Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь честью. Так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие...
— Знаю. Ну?
— Ну и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Те самые, что ты еще заделал. Расставил саперов. И — бац! Звонит Абросимов — никаких проходов, в атаку веди. Объясняю, что там пулеметы... "Плевать, артиллерия подавит, а немцы штыка боятся".
— А у тебя сколько народу?
— Стрелков — шестьдесят с чем-то. Тридцать в атаку, тридцать оставил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси... Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже гони.
— А майор в курсе дела?
— Не знаю.
Ширяев с размаху плюхается на табуретку. Она трещит и готова рассыпаться.
— Ну, что теперь делать? Половина перебита, половина до вечера проваляется, — не даст им враг подняться. А этот опять сейчас начнет в телефон...
Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются. Вскакивает, хватает за плечи и трясет меня.
— Мирово! Ты тут посиди, а я сейчас за Карнауховым и Фарбером... Эх, как бы людей из воронок выковырять! Хватает шапку.
— Если звонить будет — молчи! Пускай связист отвечает. Лешка, скажешь — на передовой. Понял? Это — если Абросимов позвонит.
Лешка понимающе кивает головой.
Только Ширяев дверью хлопнул, звонит Абросимов. Лешка лукаво подмигивает.
— Ушли, товарищ капитан. Только что ушли. Да, да, оба. Пришли и ушли.
Прикрыв рукой микрофон, смеется.
— Ругаются... Почему не позвонили ему, когда пришли.
Через полчаса у Ширяева все готово. В трех местах наши траншеи соединяются с немецкими — на сопке в двух и в овраге. В каждой из них по два заминированных завала. Ночью Ширяев с приданными саперами протянул к ним дето— нирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены, снято около десятка мин.
Все в порядке. Ширяев хлопает себя по коленке.
— Тринадцать гавриков приползло обратно. Живем! Пускай отдыхают пока, стерегут. Остальных по десять человек на проход пустим. Не так уж плохо. А?
Глаза его блестят. Шапка, мохнатая, белая, на одно ухо, волосы прилипли ко лбу.
— Карнаухова и Фарбера по сопке пущу, а сам по оврагу.
— А управлять кто будет?
— Ты.
— Отставить! Я теперь не комбат, а инженер, представитель штаба.
— Ну так что из того, что представитель? Вот и командуй.
— А ты Сендецкого в овраг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь.
— Сендецкого? Молод все-таки. Впрочем...
Мы стоим в траншее у входа в блиндаж. Глаза у Ширяева вдруг сощуриваются, нос морщится. Хватает меня за руку.
— Елки-палки... Лезет уже.
— Кто?
По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.
— Ну, теперь все...
Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь.
Абросимов еще издали кричит:
— Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли?
Запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.
— Звоню, звоню... Хоть бы кто подошел. Думаете вы воевать или нет?
Он тяжело дышит. Облизывает языком запекшиеся губы.
— Я вас спрашиваю — думаете вы воевать или нет, мать вашу...
— Думаем,— спокойно отвечает Ширяев.
— Тогда воюйте, черт вас забери... Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженер еще. А я, как мальчик, бегай...
— Разрешите объяснить,— все так же спокойно, сдержанно, только ноздри дрожат, говорит Ширяев. Абросимов багровеет:
— Я те объясню...— Хватается за кобуру.— Шагом марш в атаку!
Я чувствую, как во мне что-то закипает. Ширяев тяжело дышит, наклонив голову. Кулаки сжаты.
— Шагом марш в атаку! Слыхал? Больше повторять не буду!
В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.
— Ни в какую атаку не пойду, пока вы меня не выслушаете,— стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев.
Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас они сцепятся. Никогда я еще не видел Абросимова таким.
— Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним...
— В армии не договариваются, а выполняют приказания,— перебивает Абросимов.— Что я вам утром приказал?
— Керженцев только что подтвердил мне...
— Что я вам утром приказал?
— Атаковать.
— Где ваша атака?
— Захлебнулась, потому что...
— Я не спрашиваю почему...— И, вдруг опять рассвирепев, машет в воздухе пистолетом. — Шагом марш в атаку! Пристрелю, как трусов! Приказание не выполнять!..
Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях.
— Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать... Траншеи какие-то придумали себе. Три часа как приказание отдано...
Я больше не могу слушать. Поворачиваюсь и ухожу.
24
Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как—то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает. Обсыпает землей. Тоже падает. Быстро-быстро перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины.
Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги к самому подбородку. В правой руке у меня пистолет. Он весь в песке. Вечером Валега его густо смазал маслом. Утром я забыл его обтереть.
Никто уже не кричит "ура".
Где Ширяев? Мы почти одновременно выскочили из окопов. Я споткнулся и ухватился левой рукой за что—то железное, торчавшее из земли. Потом я видел его шинель впереди, чуть правее. На ней большое желтое пятно, она сразу бросается в глаза.
Немецкие пулеметы ни на секунду не умолкают. Совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет — веером — справа налево, слева направо.
Прижимаюсь изо всех сил к земле. Воронка довольно большая, но левое плечо, по—моему, все—таки выглядывает. Руками копаю землю. От разрыва она мягкая, поддается довольно легко. Но это только верхний слой, дальше пойдет глина. Я лихорадочно, как собака, скребу землю.
Тр-рах! Мина. Меня всего обсыпает землей.
Тр-рах! Вторая. Потом третья, четвертая. Закрываю глаза и перестаю копать. Заметили, вероятно, как я выкидываю землю.
Лежу, затаив дыхание.. Рядом кто-то стонет: "А-а-а-а..." Больше ничего, только "а-а-а-а...". Равномерно, без всякой интонации, на одной ноте. Я не знаю, сколько времени так лежу. Боюсь шелохнуться. Во рту полно земли. Скрипит на зубах. И кругом земля. Кроме земли, я ничего не вижу. Сверху — серая, мелкая, как пудра, а ниже глина — красновато-бурая, потрескавшаяся, отдельными грудками. Ни травы, ни сучка, ничего, только пыль и глина. Хоть бы червяк какой-нибудь появился. Если повернуть голову, видно небо. Оно тоже какое-то гладкое, серое, неприветливое. Вероятно, снег или дождь пойдет. Скорее снег, у меня мерзнут пальцы на ногах.
Пулемет начинает стрелять с перерывами, но все еще низко, над самой землей. Совершенно не могу понять, почему я цел — не ранен, не убит. За пятьдесят метров лезть на пулемет — верная смерть. Первыми выскочили Ширяев, Карнаухов, Сендецкий и я. И еще один, командир взвода, из новеньких. Я запомнил только, что у него из-под шапки выбивалась совершенно седая прядь волос. Фарбера я что-то не видел.
Очевидно, я очень немного пробежал и сразу лег. Никак не могу вспомнить, что заставило меня лечь. Как-то сразу все опустело кругом. Было много — и вдруг никого. Должно быть, инстинкт. Страшно стало одному. Впрочем, не помню, было ли мне страшно. Даже не помню, как и почему я оказался в этой воронке.
От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала икру, потом ступню, потом длинное сухожилие, идущее из-под колена вдоль бедра вверх. Переворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь вытянуть ногу.
Но ее некуда вытянуть, из воронки я боюсь высовываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами. Икра никак не проходит, мешает голенище.
Раненый все еще стонет. Без всякого перерыва, но уже тише.
Немцы переносят огонь в глубину обороны. Разрывы слышны уже далеко за спиной. Пули летят значительно выше. Нас решили оставить в покое. Я высовываю слегка шапку из воронки. Не стреляют. Еще немножко. Не стреляют. Опершись на руки, выглядываю одним глазом. До немцев рукой подать. Можно камнем докинуть до стоящих перед их окопами рогаток. Пулемет как раз против меня — черная полоска амбразуры.
Делаю из земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом и назад посмотреть, меня не увидят.
До наших окопов дальше, чем до немецких. Метров тридцать, а то и больше. Кто—то пробегает по ним согнувшись, видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается. Бежавший рядом со мной боец так и лежит, раскинув руки. Лицо его повернуто ко мне. Глаза раскрыты. Кажется, что он приложил ухо к земле и прислушивается к чему-то. В нескольких шагах от него — другой. Видны только ноги в толстых суконных обмотках и желтых ботинках.
Всего я насчитываю четырнадцать трупов. Некоторые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни Ширяева, ни Карнаухова среди них не видно. Я бы их сразу узнал. Вокруг много воронок — больших и маленьких. В одной что-то чернеет. Потом исчезает.
Раненый все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне. Шапка рядом. Волосы черные, вьющиеся, страшно знакомые. Руки согнуты, прижаты к телу. Он ползет. Медленно, медленно ползет, не подымая головы. На одних локтях ползет. Ноги беспомощно волочатся. И все время стонет. Совсем уже тихо.
Не отрываю от него глаз. Не знаю, как ему помочь. У меня даже пакета индивидуального нет с собой.
Он совсем уж рядом. Рукой можно дотянуться.
— Давай, давай сюда,— шепчу я и протягиваю руку.
Голова приподымается. Черные, большие, затянутые уже предсмертной мутью глаза. Харламов... Мой бывший начальник штаба... Смотрит и не узнает. На лице никакого страдания. Какое-то отупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт. Губы белые.
— Давай, давай сюда...
Упираясь локтями в землю, он подползает к самой воронке. Утыкается лицом в землю. Просунув руки ему под мышки, вволакиваю его в воронку. Он весь какой-то мягкий, без костей. Валится головой вперед. Ноги совершенно безжизненны.
С трудом укладываю его. Двоим тесно в воронке. Приходится его ноги класть на свои. Он лежит, закинув голову назад, смотрит в небо. Тяжело и редко дышит. Гимнастерка и верхняя часть брюк в крови. Я расстегиваю ему пояс. Подымаю рубаху. Две маленькие аккуратные дырочки в правой стороне живота. Я понимаю, что он умрет.
Он поворачивает голову в мою сторону. Губы его шевелятся, что—то говорят. Я могу разобрать только: "Товарищ лейтенант... товарищ лейтенант..." Мне кажется, он все-таки узнал меня. Потом откидывает голову и больше уже не подымает. Умирает он совершенно спокойно. Просто перестает дышать.
Я закрываю ему глаза. Строгое, вытянувшееся сразу лицо его прикрываю шапкой.
Начинает идти снег. Сначала мелкий, не то снег, не то крупа, потом большие мохнатые хлопья. Все вокруг становится сразу белым — земля, лежащие люди, брустверы окопов. Руки и ноги начинают мерзнуть. Уши тоже. Я подымаю воротник.
Немцы стреляют. Наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой.
Так мы лежим — я и Харламов, холодный, вытянувшийся, с не тающими на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают. Опять схватывает судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и побежать? Тридцать метров — пять секунд, самое большее, пока пулеметчик спохватится. Выбежали же утром тринадцать человек.
В соседней воронке кто—то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова. Скрывается. Опять показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро, быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги.
Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь—десять метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнеет шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет...
Потом еще трое бегут. Почти сразу все трое. Один в короткой фуфайке. Шинель, должно быть, скинул, чтоб легче бежать было. Его убивает почти на самом бруствере. Второго — в нескольких шагах от него. Третьему удается вскочить в окоп. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец.
Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно углубление для харламовских ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях. Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост. Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега.
Работа меня немного согревает. Укладываюсь на левый бок, чтобы не видеть Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю — так удобнее лежать. Теперь хорошо. Лишь бы только наши дальнобойки не открыли огня по немецкой передовой. И покурить бы... Хоть три затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в кармане.
Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет. Это — чтоб не заснуть. В нем оказывается всего четыре патрона. Запасной обоймы тоже нет.
Который сейчас может быть час? Вероятно, уже больше двенадцати. А темнеет только в шесть. Еще шесть часов лежать. Шесть часов — целая вечность.
Я опускаю наушники и закрываю глаза. Будь что будет.
Сон не идет. Мне все время кажется, что Харламов за моей спиной шевелится. Я вспоминаю, что надо у него забрать документы. Это не так легко, они у него в заднем брючном кармане. Я помню, что он вынимал кандидатскую карточку, когда платил членские взносы, из заднего кармана. Я вожусь долго. Харламов стал тяжелым, точно прирос к земле. Но все-таки достаю. В маленькую клееночку аккуратно завернуты и зашпилены английской булавкой кандидатская карточка, два письма, какая-то почти совсем истлевшая справка с расплывшими— ся чернилами и несколько фотографий. Фотографии завернуты отдельно.
Я никогда не думал, что Харламов такой аккуратный. У меня в штабе он всегда все терял и забывал.
Я рассматриваю карточки. На одной Харламов с какой-то женщиной. У нее длинные вьющиеся волосы и широко расставленные глаза. Должно быть, жена. На руках ребенок, такие же черные большие глаза, как у отца. На другой — та же женщина, только одна и в берете. На третьей — компания на берегу реки. Смеются. Один парень с гитарой. Харламов в трусах, лежит на животе. Вдали поле и стога сена. На обороте написано: "Черкизово, июнь 1939 г. Вторая слева Мура".
Я заворачиваю все опять в клеенку, закалываю булавкой и кладу в карман.
Маленький комочек глины ударяет меня в ухо. Я вздрагиваю. Второй падает рядом, около колена. Кто-то кидает в меня. Я приподымаю голову. Из соседней воронки выглядывает широкоскулое, небритое лицо.
— Браток... Спички есть?
— Есть.
— Кинь, бога ради...
— "Сорок" оставишь?
— Ладно.
Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты черт! Сидящий в воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький, чернобокий, он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки, движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается. В конце концов он все-таки зацепляет ее. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок.
— Поосторожней...— шепчу я, но, по-моему, он меня не слышит.
Он курит добрых полчаса, никак не меньше. У меня даже голова кружится от желания и зависти. Потом спичечная коробка возвращается ко мне с крохотным, обслюненным окурком внутри. Я его сосу, сосу что есть мочи. Все губы обжигаю.
— Боец! Часов нет у тебя? — спрашиваю я шепотом.
— Без четверти двенадцать,— доносится из воронки. Я ушам не верю. Думал, что уже два или три, а тут еще двенадцати нет. В довершение всего опять начинается обстрел. Наш или немецкий, кто его знает. Снаряды рвутся совсем рядом. Минут десять или пятнадцать. Потом перерыв. Потом опять налет.
Надо бежать. Ждать еще шесть часов! Не выдержу. Убьют так убьют — от смерти не спасешься.
Из воронки опять хрипит:
— Друг... э-э-э... друг...
— Что тебе?
— Давай побежим. Тоже не выдержал.
— Давай,— отвечаю я.
Мы идем на маленькую хитрость. Предыдущих трех убило почти у самого бруствера. Надо, не добегая до наших окопов, упасть. К моменту очереди мы будем лежать. Потом одним рывком прямо в окопы. Может, повезет. Переворачиваюсь в сторону наших окопов. Лишь бы опять судорога не схватила. Местность впереди ровная, только одна воронка небольшая и убитый рядом.
— Ну, готов?
— Готов.
Упираюсь левой ногой, правая согнута в колене. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени. Рука на животе. Ему уже ничего не нужно.
— Пошел!
— Пошел.
Снег... Воронка... Убитый... Опять снег... Валюсь на землю. И почти сразу же: "Та-та-та-та-та-та..."
— Жив?
— Жив.
Лежу лицом в снегу. Руки раскинул. Левая нога под животом. Легче вскакивать будет. До окопов пять шагов или шесть. Уголком глаза пожираю этот клочок земли.
Надо выждать минуты две или три, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет, мы слишком низко.
Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно.
— Ну — пора.
— Приготовьсь,— не подымая головы, в снег говорю я.
— Есть,— отвечает слева.
Я весь напрягаюсь. В висках стучит.
— Давай!
Отталкиваюсь. Три прыжка и — в окопе.
Мы долго потом еще сидим прямо в грязи, на дне окопа и смеемся. Кто-то дает окурок.
Оказывается, уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с семи до пяти — девять часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно хочу есть.
Утром мы хороним товарищей — Харламова, Сендецкого и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Карнаухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по-видимому, и погиб.
Ширяев приполз сам, залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз, еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда. Полчаса тому назад его отвезли в медсанбат на ту сторону.
Всего батальон потерял двадцать шесть человек, почти половину, не считая раненых.
Команду над батальоном принял Фарбер. Он единственный из всех командиров не участвовал в атаке. Абросимов оставил его при себе.
Мы хороним товарищей над самой Волгой.
Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые, тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге — осеннее сало.
Темнеют три ямы.
Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера — сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится.
Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Салют — сухая, мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнобой— ки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы.
И это все. Мы уходим.
Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову — двадцать пять. Даже похоронить его не удалось: его тело там — у немцев.
Так и не прочел он мне стихи свои. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые — такие, каким он сам был.
...Ты от этой землянки низкой
Так далеко, как мир иной,
Мне ж такою видишься близкой,
Будто вот — держусь рукой.
Вижу, как шевелятся ветви, Молодой шумит березняк, Как твоими косами ветер Оплетает, вяжет меня.
Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи — Лондон и Карнаухов.
В последний раз я говорил с Карнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранатам. Я что-то спросил у него — не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки, глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что—то ответил, и я ушел. Больше я его не видел.
Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку.
Приходит Лисагор. Садится на свою койку, подобрав ноги. Сопит. Не ругается. Молча курит, опершись подбородком о колени.
— Судить, говорят, Абросимова будут,— мрачно говорит он.
— Кто сказал?
— Писарь Ладыгин слыхал.
— Брехун...
— Брехун, да не всегда. Трется все-таки около начальства.
— Ты что, в штабе был?
— В штабе.
— Что там?
— Ничего. Как всегда. Астафьев схемы разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек. Я соврал, что двенадцать. С ним тоже надо ухо востро держать. Чернильная душа.
— Майора не видел?
— Заскочил на минутку. Сумрачный, невеселый, список потерь у Ладыгина взял.
Эх... напиться бы сейчас... До чертиков...
Вечером в комсоставской столовой майор останавливает меня.
— Подготовься к завтраму, инженер.
Я не понимаю.
— К чему?
Майор попыхивает трубкой, не слышит. Осунулся, побледнел.
— К чему? — повторяю я.
Он медленно поднимает голову.
— Расскажешь того... как это все было... там, на сопке,— и уходит, опираясь на палку. Он до сих пор еще прихрамывает.
Я ничего больше не спрашиваю. Всё ясно.
Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Абросимова вызывали в штадив и что они три часа там пропадали. Потом Абросимов как заперся в своем блиндаже, так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал.
— Связной его на продскладе чего-то околачивался. Потом рысью в блиндаж его — все карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили.
И он подмигивает наглым зеленым глазом.
25
На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит майор. В трубе второго батальона — это самое просторное помещение на нашем участке — накурено так, что лиц почти не видно. Абросимов сидит у стенки. Губы сжаты, белые, сухие. Глаза — в стенку.
Астафьев, секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернила на уголке. Рядом с ним еще двое — начальник разведки и командир роты ПТР. Майор стоит у стола. За эти сутки постарел лет на десять. Время от времени подносит к губам стакан с чаем и пьет маленькими нервными глотками. Говорит тихо. Так тихо, что из конца трубы не слышно. Я пробираюсь вперед.
— Нельзя на войне без доверия,— говорит он,— мало одной храбрости. И знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя...
Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка дрожат пальцы, отстегивающие крючки.
— С Абросимовым мы прошли большой путь... Большой боевой путь. Орел, Касторная, Воронеж... Здесь вот уже сколько сидим. И я верил ему. Знал, что он молод, неопытен, может быть, на войне только учится, знал, что может ошибки делать,— кто из нас не ошибался,— но верить — я ему верил. Нельзя не верить своему начальнику штаба.
Повернув голову, он долгим, тяжелым взглядом смотрит на Абросимова.
— Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я. И когда комдив кричал сегодня на Абросимова, я знал, что это он и на меня кричит. И он прав.— Майор проводит рукой по волосам, обводит всех нас усталым взглядом.— Не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера,— это уже не война. Это истребление. Абросимов превысил свою власть. Он отменил мой при— каз. И отменил дважды. Утром — по телефону, и потом сам, погнав людей в атаку.
— Приказано было атаковать баки...— сухим, деревянным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стенки.— А люди в атаку не шли...
— Врешь! — Майор ударяет кулаком по столу так, что ложка в стакане дребезжит. Но тут же сдерживается. Отхлебывает чай из стакана.— Шли люди в атаку. Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему первая атака привела? Но там нельзя было иначе. Мы рассчитывали на артподготовку. Нужно было сразу же, не давая противнику опомниться, ударить его. И не вышло... Противник оказался сильнее и хитрее, чем мы думали. Нам не удалось подавить его огневые точки. Я послал инженера во второй батальон. Там был Ширяев — парень с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтоб захватить немецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты... А Абросимов что сделал?
У Абросимова начинает подергиваться губа. Обычно добродушное, мягкое лицо Бородина становится красным, щеки трясутся.
— Я знаю, как ты кричал там... Как пистолетом размахивал.
Он отпивает еще глоток чаю из стакана.
— Приказ на войне свят. Невыполнение приказа — преступление. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили и лежат сейчас перед нашими окопами. А Абросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он превысил свою власть. А люди погибли. Все. По-моему, достаточно.
Майор тяжело опускается на табуретку. Абросимов как сидел, так и сидит,— руки на коленях, глаза в стенку. Астафьев, наклонив голову, что-то старательно и быстро пишет.
Говорят еще несколько человек. Потом я. За мной — Абросимов. Он краток. Он считает, что баки можно было взять только массированной атакой. Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любят атак. Баки можно было только атакой взять. И он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, струсили.
— Струсили?..— раздается откуда-то из глубины трубы.
Все оборачиваются. Неуклюжий, на голову выше всех окружающих, в короткой, смешной шинелишке своей, протискивается к столу Фарбер.
— Струсили, говорите вы? Ширяев струсил? Карнаухов струсил? Это вы о них говорите?
Фарбер задыхается, моргает близорукими глазами — очки он вчера разбил,— щурится.
— Я все видел... Собственными глазами видел... Как Ширяев шел... И Карнаухов, и... все как шли... Я не умею говорить... Я их недавно знаю... Карнаухова и других... Как у вас только язык поворачивается. Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет лезть. Абросимов... капитан Абросимов говорил, что приказано было атаковать баки. Не атаковать, а овладеть. Траншеи, придуманные Ширяевым, не трусость. Это прием. Правильный прием. Он сберег бы людей. Сберег, чтоб они могли воевать. Сейчас их нет. И я считаю...— Голос у него срывается, он ищет стакан, не находит, машет рукой.— Я считаю, нельзя таким людям, нельзя им командовать...
Фарбер не находит слов, сбивается, краснеет, опять ищет стакан и вдруг сразу выпаливает:
— Вы сами трус! Вы не пошли в атаку! И меня еще при себе держали. Я все видел...— И, дернув плечом, цепляясь крючками шинели за соседей, протискивается назад.
Я выхожу вслед за ним во двор. Он стоит, прислонившись к трубе.
— Хорошо говорили, Фарбер. Он вздрагивает:
— Какое там хорошо. Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так, знаете... И сидит себе спокойно, огрызается еще. Нет... Нет. Не то все это.
Он тяжело дышит.
— Последних моих двух стариков убило. Ермака и Переверзева. Вы их не помните? Один моряк, другой комбайнер, кажется. Неразлучные друзья. Спали, пили, ели вместе. Да вы знаете их. Фокусник один из них был.
— А тот молоденький командир взвода, забыл его фамилию, с седой прядью, ваш был?
— Калабин? Командир пульроты. Мальчик совсем еще. И недели у нас не пробыл. Из госпиталя прибыл — все рассказывал, как манной кашей их там закармливали.
— Новых командиров не прислали еще?
— Командиров роты из первого и третьего батальона прислали. А на взводы сержантов пока поставил. Адъютанта старшего пока нет.
— Без адъютанта трудновато,— соглашаюсь я. Почему—то я совершенно спокоен сейчас за Фарбера. В его манере говорить, в общем тоне появились какие—то новые, твердые нотки. Их раньше не было.
— А что с Ширяевым? Так и не узнали точно?
— Кажется, не очень серьезно. Череп цел, а с рукой не знаю что. Крови мало было, но болталась, как тряпка.
— Правая?
— Нет, левая...
— И то хорошо...
— Не хотел уходить. Ругался. Все равно, говорит, вернусь. Хотите или не хотите, а вернусь. А с Абросимовым хоть на краю света, а встречусь.
— Не завидую Абросимову, кулачок у Ширяева — дай бог...
Мы еще некоторое время разговариваем, потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд.
Валега жарит хлеб на сковородке. В углу шумит самовар.
Я скидываю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке.
— Вы чай или кофе будете? — спрашивает Валега.
— А кофе с чем?
— С молоком сгущенным.
— Тогда кофе.
Валега уходит толочь зерна. Шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи Карнаухова.
Потом приходит Лисагор. Хлопает дверью. Заглядывает в сковородку. Останавливается около меня.
— Ну? — спрашиваю я.
— Разжаловали и — в штрафную.
Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами.
Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слыхал.
26
Ночью приходят танки. Шесть стареньких, латаных и перелатаных "тридцатьчетверок". Долго фырчат, лязгают гусеницами по берегу, маскируются. Сразу как—то веселей становится.
Мы их давно уже ждем. Дней десять носятся слухи. Говорили, целая дивизия танковая идет из тыла, прямо с завода. Потом уменьшили до полка, до батальона. Приходит же всего шесть видавших виды старушек, и не из тыла, а с "Красного Октября", где они чуть ли не с первого дня обороны воюют. Но все это чепуха. Все же танки, техника... И вид у них довольно грозный...
К утру они должны быть уже на передовой. Майор приказывает мне просмотреть и подготовить дорогу для них. Придется подорвать две железнодорожные платформы, загораживающие дорогу у шлагбаума. Посылаю туда Лисагора и Агнивцева.
Трое танкистов заходят ко мне погреться — два лейтенанта и сержант,— черные, грязные, промасленные с головы до ног.
— Поесть ничего нет? — спрашивает старший из них с испещренным шрамами лицом — обгорел, должно быть.— С утра во рту ничего не было...
Валега подает на стол остатки именинного зайца. Лейтенанты с аппетитом уплетают его за обе щеки.
— Ну как? Воюете? — спрашивают.
— Воюем понемножку,— отвечаю я.
— Баков до сих пор не взяли?
— Баков не взяли. Голыми руками не очень-то...
Танкисты пересмеиваются.
— На нас надеетесь?
— А на кого ж? Без техники все-таки...
Лейтенант с густой, небритой, чуть не до глаз бородой смеется.
— А знаешь, где эта техника только не перебывала?
— По машинам видно, что поработали основательно. На Юго-Западном были?
— Ты спроси, где мы не были.
— Под Харьковом были?
— Под Харьковом? А ты что, был там?
— Был.
— Непокрытую, Терновую знаешь?
— Еще бы. Мы там в наступление шли.
— Тоже мне — шли... Из-за вас, пехтуры, и Харьков прозевали. Мы на Тракторном уже были... Зайца нет больше?
— Весь. Шкура только осталась.
— Жаль. А то спирт у нас есть...
— А мы сообразим чего-нибудь.
Я посылаю Валегу к Чумаку.
— Скажи, чтоб приходил. И закуску тащил с собой. У вас сколько спирту?
— Хватит. Не беспокойся.
Валега уходит. Сержант тоже.
— А вы как боги живете,— говорит лейтенант с шрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркале.— Как паны...
— Да, на жилплощадь пожаловаться не можем.
— И книжечки почитываете.
— Бывает.
Он перелистывает "Мартина Идена".
— Я уже и не помню, когда читал. В Перемышле, что ли? В субботу перед войной. Читать, вероятно, уже разучился,— и смеется.— После войны придется заново учиться.
Потом приходит Чумак. Заспанный, почесывается, в волосах пух.
— Инженер называется... Посреди ночи водку пить... Придет же в голову. На, бери.
Он вынимает из-под бушлата два круга колбасы и буханку хлеба.
— Валега твой пошел за старшиной моим. Тушенки пару банок притащит.
Смотрит на танкистов.
— Ваши коробки на берегу?
— А чьи же?
— Я б и сесть на них постыдился. До передовой не доберутся — рассыплются.
Бородатый обижается.
— А это уж наше дело.
— Конечно ж, не мое. Мое дело водку пить и танкистов ругать, что воюют плохо.
— А ты кто?
— Я? А ты инженера спроси. Он тебе скажет.
— Разведчик, должно быть. По морде видать.
— По какой морде? — Чумак сжимает кулаки.
— Поосторожнее, малый. Спирт-то чей будешь пить?
— А что? Ваш?
— Наш.
— Тогда все. Молчу. И про танки беру обратно. Возьмете завтра баки. На таких машинах и не взять...
Танкисты смеются. Чумак потягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы.
— Куда же это Приходько запропастился?
— Бачки отвязывает, должно быть. Или посуду ищет. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий, девяносто шесть.
— За водой остановки не будет. Волга под боком.
— Вы что — завтра в атаку? — спрашивает Чумак.
— Бог его знает. Велено стать на исходные, а там посмотрим.
— Навряд ли завтра. Нам ничего еще не говорили.
— Скажут еще.
— Если не завтра,— задумчиво ковыряя ножом стол, говорит Чумак,— немцы вас за день прямой наводочкой, знаешь, как разделают...
— Там, говорят, склон, не видно будто.
— Говорят, говорят... А "мессеры" зачем?
— А противотанковой артиллерии много у них? — настораживается бородатый.
— На вас хватит.
В коридоре что-то с грохотом летит. Кто-то ругается. Потом вваливается сержант, нагруженный фляжками.
— Какой дурак у вас там лопаты раскидал. Чуть все фляжки не пококал.
Он кладет фляжки на койку. Поворачивается, сияющий, веселый.
— Что мне за новость будет?
— Какую новость?
— Мировую. Скажите, что будет,— расскажу.
— Сто грамм лишних,— морщится Чумак, пробуя спирт на язык.— Силен, черт...
— Мало.
— Тогда держи при себе. Все равно после первой стопки разболтаешь. Давай кружки, инженер.
Я подаю кружки. Их всего две. Придется по очереди. Чумак разливает. Льет воду из чайника.
— Ну — что за новость? — спрашивает лейтенант со шрамами.
— Сказал, что мировая. В шестнадцатой машине передачу только что слушал.
— Гитлер сдох, что ли?
— Почище...
— Война кончилась?
— Наоборот. Началась только...— и, выдержав паузу: — Наши Калач заняли. Потом эту, как ее. Кривую... Кривую...
— Кривую Музгу?
— Музгу... Музгу. И еще что-то на Г...
— Неужто Абганерово?
— Вот, вот... Абганерово...
— А ты не врешь?
— Зачем вру? Тринадцать тысяч пленных... Четырнадцать тысяч убитых!
— Елки—палки!..
— Когда же это?
— Да вот за эти три дня. Калач, Абганерово и еще что-то. Целая куча названий.
— Ну, все. Фашистам капут!
Чумак так ударяет меня ладонью промеж лопаток, что я чуть не проглатываю язык.
— За капут, хлопцы!
И мы пьем все сразу из кружек и фляжек, запивая водой прямо из носика чайника.
— Вот дела! Вино хлещут...
В дверях Лисагор. Даже рот раскрыл от удивления.
— Я там вагоны рву, а они водку дуют.
Я протягиваю ему кружку. Он залпом выпивает. Закрывает глаза. Крякает. Ощупью берет корку хлеба. Нюхает.
— Разлагаетесь здесь, а в пять наступление. Знаете? Батальонам уже завтрак повезли.
— Врешь...
— Посмотрите, что на берегу делается.
Танкисты срываются, не дожевав колбасы.
— Ширяев ругается, что с проходами задерживаем.
— Какой Ширяев?
— Как — какой? Начальник штаба. Старший лейтенант.
— Господи... Откуда ж он взялся?
— Всю войну так прозеваете...— смеется Лисагор.— Из медсанбата прибежал. Разоряется уже там на берегу.
Я натягиваю сапоги. Ищу пистолет. Смотрю на часы. Без четверти три.
— Проходы сделал?
— Сделал.
— На всю ширину?
— На всю. Как миленькие проедете.
Танкисты уже заводят моторы, суетятся. Весь берег белый. Опять снег пошел. Откуда—то слева доносится голос Ширяева. Кричит на кого-то:
— Чтоб через пять минут пришел и доложил... Понятно? Раз-два...
Пробегает Чумак, застегивая на ходу бушлат.
— Дает дрозда новый начальник штаба. Держись только, инженер...
Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забинтована, в косынке. Белеет бинт из—под ушанки. Увидев меня, машет здоровой рукой.
— Галопом на передовую, Юрка! Танкистам помогать... Никто не знает, где там проходы ваши...
— Как рука? — спрашиваю.
— Потом, потом... Топай... Два часа осталось.
— Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти?
— Топай... А Лисагора ко мне...
Я козыряю, поворачиваюсь через левое плечо, прищелкивая каблуком, руку от козырька отрываю с первым шагом.
— Отставить! Два часа строевой...
Холодный крепкий снежок влепляется мне прямо в затылок. Рассыпается, забирается за шиворот.
Я вскакиваю на переднюю машину. Валега уже там, прицепляет фляжку к поясу.
Один за другим вытягиваются танки вдоль берега. Минуют шлагбаум, взорванные платформы. Выезжают на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют — танки неистово громыхают.
Медленно кружась в воздухе, падают снежинки.
Громадной тяжелой глыбой белеет впереди Мамаев курган.
До наступления осталось час сорок минут.
27
Атака назначена на пять. Без двадцати пять прибегает запыхавшийся Гаркуша.
— Товарищ лейтенант...
— Ну, чего еще?
Он тяжело дышит, вытирает взмокший лоб ладонью.
— Разведчики вернулись.
— Ну?
— На мины напоролись.
— Какие мины?
— Немецкие. Как раз против левого прохода. Метров за пятьдесят. Какие—то незнакомые.
— Тьфу ты, черт! Чего же они вчера смотрели?
— Говорят, не было вчера.
— Не было?.. Где этот... Бухвостов?
— В петеэровской землянке сидит.
— Ширяев, позвони в штаб, чтоб сигнал задержали. Я сейчас.
Бухвостов, рябой, щупленький командир разведвзвода саперного батальона, разводит руками:
— Сегодня ночью, очевидно, поставили. Ей-богу, сегодня ночью. Вчера собственными руками все обшарил — ничего не было. Ей-богу...
— Ей-богу, ей-богу! Чего раньше не доложил? Всегда в последнюю минуту. Много их там?
— Да штук десять будет. И какие-то незнакомые, первый раз вижу. Вроде наших помзов, но не совсем. Взрыватель где-то сбоку.
— Гаркуша, тащи маскхалаты. А ты... поведешь.
На наше счастье, луны нет. Ползем через танковый проход, отмеченный колышками. Рябой сержант, Гаркуша, я. Мелькают перед носом подбитые подковами гаркушинские каблуки. Проползаем за линию немецких траншей. Сер— жант останавливается. Молча указывает рукавицей на что-то чернеющее в снегу. Помза! Самая обыкновенная помза — насеченная болванка, взрыватель и шнурок. А сбоку добавочный колышек, чтобы крепче стояла. А он его за взрыватель при— нял. Шляпа, а не разведчик.
Гаркуша, лежа на животе, ловко один за другим выкручивает взрыватели. У меня замерзли руки, и я с трудом отвинчиваю только два. Сержант сопит.
"Пш-ш-ш-ш..." Ракета...
Замираем. Моментально пересыхает во рту. Сердце начинает биться как бешеное. Увидят, сволочи.
"Пш—ш—ш—ш..." Вторая... Уголком глаза вижу, что сержант уже отполз от меня метров за десять. Ну, что за человек! Сейчас увидят немцы.
Короткая очередь из пулемета.
Увидели.
Опять очередь.
Что—то со страшной силой ударяет меня в левую руку, потом в ногу. Зарываю голову в снег. Он холодный, приятный, забивается в рот, нос, уши. Как приятно... Хрустит на зубах... Как мороженое... А он говорил, что не пом— зы... Самые обыкновенные помзы... Только колышек сбоку. Чудак сержант. Всё... Больше ничего... Только снег на зубах...
28
"Ну и сукин же ты сын, Юрка. После записки из медсанбата два месяца ни слова. Просто хамство. Если бы еще в правую руку был ранен, тогда была б отговорка, а то ведь в левую. Нехорошо, ей-богу, нехорошо. Меня тут каждый день о тебе спрашивают, а я так и отвечаю — разжирел, мол, на госпитальных харчах, с санитарками романы разводит, куда уж о боевых друзьях вспоминать. А они, настоящая ты душа, не забывают. Чумак специально для тебя замечательный какой—то коньяк трофейный бережет (шесть звездочек!), никому пробовать не дает. Я уж подбирался, подбирался — ни в какую.
А вообще надоело. Сидение надоело. До чертиков надоело. Другие наступают, вперед на запад, а мы все в тех же окопах, в тех же землянках. Враг, правда, не тот, что раньше. Но прошлый месяц все-таки туговато пришлось. Людей почти всех повыводило из строя, а рассчитывать на пополнение, сам знаешь... После того как тебя кокнуло, еще раз ходили в танковую атаку, но баков так и не взяли, а танки потом на другой участок перебросили. Один немцы подбили, и мы из-за него добрый месяц воевали. Комдив велел под ним огневую точку сделать, и немецкий комдив, вероятно, то же самое решил, вот и дрались из-за этого танка как скаженные. В лоб не выхо— дило — в батальонах по пять-семь активных штыков. Пришлось подкопаться. А грунт как камень, и взрывчатки нет. Волга недели две никак стать не могла. Сухари в концентрат "кукурузники" сбрасывали.
В конце концов взяли все-таки танк. Вырыли туннель в двадцать два метра длиной, заложили толу килограммов сто и ахнули. В атаку через воронку полезли. Вот какие мы! Я Тугиева, Агнивцева (он сейчас в медсанбате — ранен) и твоего Валегу к звездочке представил — молодцы хлопцы, а остальных — к отваге. Сейчас под танком фарберовский пулемет,— сечет немцев напропалую. Баки пока еще у них. Врылись в землю, как кроты, ни с какой стороны не подлезешь. Бойцов не хватает, вот в чем закавыка. Артиллерией в основном воюем. Ее всю, кроме тяжелой, на правый берег перетянули. Около нашей землянки батарею дивизионок поставили, спать не дает. Родимцева и 92-ю правее нас перекинули, в район Трамвайной улицы. А 39-я молодцом. "Красный Октябрь" почти полностью очистила.
Во взводе нас сейчас трое — я, Гаркуша и Валега. Тугиев с лошадьми на левом берегу вместо Кулешова. Проворовался Кулешов с овсом и угодил в штрафной. Чепурного, Тимошку и того маленького, что все время жевал, забыл его фамилию, потеряли на Мамаевом. Мы недели две держали там оборону с химиками и разведчиками. Двоих похоронили, а от Тимошки только ушанку нашли. Жалко парнишку. И баян его без дела валяется. Уразов подорвался на мине, оторвало ступню. И троих еще отправил в медсанбат, из новеньких, ты их не знаешь. Из штабников накрылся начхим Турин и переводчик. "Любимцу" твоему с бакенбардами, Астафьеву, немцы влепили осколок прямо в задницу (как он его поймал, никак не пойму,— из землянки он не вылазил), лежит теперь на животе и архив свой перебирает.
А мы сейчас все НП строим. Каждый день новый. Штук пять уже сделали — все не нравится майору. Ты ведь знаешь его. Один в трубе фабричной сделали — около химзавода, где синьки много. Другой — на крыше, как голубятня. Видно хорошо, но майор говорит — холодно, сквозит, велел под домиком сделать в поселке, что около выемки, где паровоз "ФД" стоит. А артиллеристы 270-го приперли туда свои пушки и огонь противника на себя притягивают. Снаряды рвутся совсем рядом — куда ж майора туда тянуть.
А в общем, приезжай скорей, вместе подыщем хорошее местечко. Да и копать поможешь (ха-ха!), а то у меня такие уже волдыри на ладонях, что лопаты в руки не возьмешь. Устинов твой, дивинженер, плотно поселился в моих печенках — все схемы да схемы требует, а для меня это, сам знаешь, гроб. Ширяев передает поклон, рука у него совсем прошла.
Да... Во втором батальоне новый военфельдшер. Вместо Бурлюка, он на курсы поехал. Приедешь — увидишь. Чумак целыми днями там околачивается, пряжку свою каждый день мелом чистит. А в общем — приезжай скорей. Ждем.
Твой Л. Лисагор.
Р.S. Нашел наконец взрыватель "LZZ" обрывнонатяжной, о котором ты все мечтал. Без тебя не разбираю. Теперь у нас уже совсем неплохая трофейная коллекция — мины "S" и "ТМI—43", есть совсем новенькие, пять типов взрывателей в мировых коробочках (на порттабачницы пойдут) и замечательная немецкая зажигательная трубка с терочным взрывателем.
А. Л."
На оборотной стороне приписка большими, кривыми, ползущимии вниз буквами:
"Добрый день или вечер, товарищ лейтинант. Сообщаю вам, что я пока живой и здоровый, чего и вам желаю. Товарищ лейтинант, книги ваши в порядке, я их в чимодан положил. Товарищ командир взвода достали два окумулятыря, и у нас в землянке теперь свет. Старший лейтинант Шыряев хотят отобрать для штаба. Товарищ лейтинант, приезжайте скорей. Все вам низко кланяются, и я тоже. Ваш ординарец Л. Волегов".
Засовываю письмо в сумку, натягиваю халат и иду к начмеду: он малый хороший, договориться всегда можно. И к завскладом, чтобы новую гимнастерку дал. У моей весь рукав разодран.
Наутро в скрипучих сапогах, в новой солдатской шинели, с кучей писем в карманах — в Сталинград, прощаюсь с ребятами.
Они провожают меня до ворот.
— Паулюсу там кланяйся!
— Обязательно.
— Мое поручение не забудь, слышишь?
— Слышу, слышу.
— Это совсем рядом. Второй овраг от вашего. Где "катюша" подбитая стоит.
— Если увидишь Марусю, скажи, что при встрече расскажу что-то интересное. В письме нельзя.
— Ладно... Всего... "Следопыты" в шестую палату отдайте. И физкультурнице привет.
— Есть — привет.
— Ну, бувайте.
— Пиши... Не забывай...
Шофер уже машет рукой:
— Кончай там, лейтенант.
Я жму руки и бегу к машине.
29
До хутора Бурковского добираемся к вечеру. В Бурковском тылы дивизии и Лазарь — начфин. У него и ночую в маленькой, населенной старухами, детьми и какими—то писарями хибарке.
— Ну, как там, в тылу? — спрашивают.
— Обыкновенно...
— Ты в Ленинске лежал?
— В Ленинске. Незавидный госпиталишко. С моей землянкой на берегу не сравнишь.
Лазарь смеется.
— Ты и не узнаешь теперь свою землянку — электричество, патефон, пластинок с полсотни, стены трофейными одеялами завешаны. Красота!
— А ты давно оттуда?
— Вчера только вернулся. Жалованье платил.
— Сидят еще немцы?
— Какое там! С Мамаева уже драпанули, за Долгим оврагом окопались. На ладан дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет, в землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут, в общем...
Ночью я долго не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок.
Рано утром на штабном "газике" еду дальше.
К Волге подъезжаем без всякой маскировки, прямо к берегу. Широченная, белая, ослепительно яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП, должно быть. Красный флажок на белом фоне... Фу ты черт, как время летит! Совсем недавно, ну вот вчера как будто бы, была она, эта самая Волга, черно-красной от дыма и пожарищ, всклокоченной от разрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас обсаженная вехами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда, грузовики, "виллисы", пестренькие, камуфлированные "эмочки". Кое—где редкие, на сотни метров друг от друга, пятна минных разрывов. Старые еще следы. Рыжеусый регулировщик с желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе — выдохлись.
Проезжаем КПП.
— Ваши документики.
— А без них нельзя, что ли?
— Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен. Вот это да. Вокруг чуйковского штаба проволочный забор, у калиток часовые по стойке "смирно", дорожки посыпаны песком, над каждой землянкой номер — добротный, черный, на специальной дощечке.
Указатель на полосатом столбике: "Хоз-во Бородина — 300 метров", и красным карандашом приписано:
"Первый переулок налево". Переехали, значит. Переулок налево, по-видимому, овраг, где штадив был.
Волнуюсь. Ей-богу, волнуюсь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу, каждую мелочь, каждое новшество. Заасфальтировали тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на 26-м номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь.
Вот здесь мы высаживались в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила тридцать лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, залатали, какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель, мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались. Закопали, что ли,— никакого следа. А тут кто-то лестницу построил, не надо уже по откосам лазить. Совсем культура, даже перила тесаные.
Над головой проплывает партия наших "петляковых". Спокойно, уверенно. Как когда—то "хейнкели". Торжественно, один за другим, пикируют...
— Вот это да — черт возьми!
В овраге пусто. Куча немецких мин в снегу. Мотки проволоки, покосившийся станок для спирали Бруно. Наш станок, узнаю, Гаркуша делал. Около уборной человек двадцать немцев — грязных, небритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. Увидев меня, встают.
— Вы кого ищете, товарищ лейтенант? — раздается откуда-то сверху.
Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега, налетает на меня и чуть с ног не сбивает.
— Живы, здоровы, товарищ лейтенант?
Веселая, румяная морда. Смеющиеся, совсем детские глаза.
Седых!.. Провалиться мне на этом месте!.. Седых!..
— Откуда ты взялся... черт полосатый?!
Он ничего не отвечает. Сияет. Весь сияет, с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немножко пьян.
— Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немца гоним — пух летит. Наше КП тут же в овраге. Все на передовой. А меня царапнуло. Здесь оставили. Пленных стеречь.
— А Игорь?
— Жив—здоров.
— Слава богу!
— Приходите сегодня к нам. Ох, и рады же будут!.. А вы из госпиталя? Да? Ребята мне говорили.
— Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя.
Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет — возмужал все-таки. Колючие воло— сики на подбородке. Чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде, и глаза прежние — веселые, озорные, с длинными закручивающимися, как у девушки, ресницами.
— Стой, стой!.. А что это у тебя там под телогрейкой блестит?
Седых смущается. Начинает ковырять мозоль на ладони — старая привычка.
— Ну и негодяй!.. И молчит. Дай лапу. За что получил?
Еще пуще краснеет. Пальцы мои трещат в его могучей ладони.
— Не стыдно теперь в колхоз возвращаться?
— Да чего ж стыдиться-то...— И все ковыряет, ковыряет ладонь.— А вы этот самый... портсигарчик мой сохранили или...
— Как же, как же. Вот он, закуривай.
И мы закуриваем.
— Огонь есть?
— Ганс, огня лейтенанту! Живо! Фейер, фейер... Или как там, по-вашему...
Щупленький немец в роговых очках,— должно быть, из офицеров,— моментально подскакивает и щелкает зажигалкой-пистолетиком.
— Битте, камрад.
Седых перехватывает зажигалку.
— Ладно, битый, сами справимся,— и подносит огонь.— Ох, и барахольщики! Все карманы барахлом забиты. В плен сдаются и сейчас же — зажигалку. У меня уже штук двадцать их. Дать парочку?
— Ладно, успею еще. Расскажи-ка лучше... Как-никак — четыре месяца, кусочек порядочный.
— Да что рассказывать, товарищ лейтенант. Одно и то же...— И все-таки рассказывает обычную, всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую... Тогда-то минировали, и почти всех накрыло, а тогда—то сутки в овраге пролежал, снайпер ходу не давал, в трех местах пилотку прострелил, а потом в окружении сидел две недели в литейном цехе, и немцы бомбили, и есть было нечего и, главное, пить, и он четыре раза на Волгу за водой ходил, а потом... потом опять минировали, разминировали. Бруно ставили...
— В общем, сами знаете...— и улыбается своей ясной, славной улыбкой.
— Не подкачал, значит. Я так и знал, что не подкачаешь. Давай-ка еще по одной закурим, и пойду наших искать. Где они, не знаешь?
— Да там все... На передовой. За Долгим оврагом, должно быть. Один я остался — хромой.
— И никого больше?
— Штабной командир ваш еще какой-то. Вот в той землянке. Раненый.
— Астафьев, что ли?
— Ей-богу, не знаю, старший лейтенант.
— В той землянке, говоришь? — И я направляюсь к землянке.
— Вечером, значит, в гости ждем, товарищ лейтенант,— кричит вдогонку Седых.— Игорю Владимировичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж. Налево. Три ступеньки и синяя ручка на дверях.
Астафьев лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке телефон.
— Жорж! Голубчик!! Вернулись! — Он расплывается в улыбку и протягивает свою нежную, пухлую руку.— Здоровы, как бык?
— Как видите.
— А мне вот не повезло. Полк немцев гонит, а я телефонным мальчиком, донесения пишу.
— Что ж, не так уж плохо. Спокойнее историю писать.
— Как сказать... Да вы садитесь, телефон на пол поставьте, рассказывайте.— Он пытается повернуться, но морщится и ругается.— Седалищный нерв задет, боль адская.
— Война, ничего не поделаешь. А где наши?
— В городе, Жорж, в городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается. Фарбер только что звонил — гостиницу блокируют около мельницы. С полсотни эсэсовцев засели там, не сдаются. Да вы садитесь.
— Спасибо. А Ширяев, Лисагор где?
— Там. Все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие, трофейные...— Он протягивает аккуратную зеленую коробочку с сигаретами.
— Не люблю. В горле першит от них. А это что — тоже трофей? — На столе громадный, сияющий перламутром аккордеон.
— Трофей. Ширяеву Чумак подарил. Там их, знаете, сколько!
— Ну, ладно, я пойду.
— Да вы посидите, расскажите, как там в тылу.
— В другой раз как-нибудь. Мне Ширяев нужен. Астафьев улыбается.
— Трофеи боитесь прозевать?
— Вот именно.
Астафьев приподымается на локте.
— Жоржик, голубчик... Если попадется фотоаппарат, возьмите на мою долю.
— Ладно.
— "Лейку" лучше всего. Вы понимаете в фотографии? Это вроде нашего "Фэда".
— Ладно.
— И бумаги... И пленку... Там, говорят, много ее. И часики, если попадутся. Хорошо? Ручные лучше...
30
К вечеру я совсем уже пьян. От воздуха, солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости. И от коньяка. Хороший коньяк! Тот самый, чумаковский, шесть звездочек.
Чумак наливает стакан за стаканом.
— Пей, инженер, пей! Отучился небось за четыре месяца. Манные кашки все там жевали, бульончики. Пей, не жалей... Заслужили!
Мы лежим в каком—то разрушенном доме,— не помню уже, как сюда попали,— я, Чумак, Лисагор, Валега, конечно. Лежим на соломе, Валега в углу курит свою трубочку, сердитый, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что ж это такое в конце концов — шинель командирскую, перешитую, с золотыми пуговицами, в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую, по колено, принес. Куда ж это годится! И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые.
— Я вам хромовые там достал,— мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы.— В блиндаже... Подъем только низкий...
Я оправдывался, как мог, но прощения так, кажется, и не заслужил.
— Пей, пей, инженер,— подливает все Чумак,— не стесняйся...
Лисагор перехватывает кружку.
— Ты мне его не спаивай. Мы сегодня в Тридцать девятую приглашены. Налегай, Юрка, на масло. Налегай.
И я налегаю.
Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев, труба "Красного Октября", единственная так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах. Красные, синие, желтые, зеленые... Целое море ракет. И стрельба. Целый день сегодня стреляют. Из пистолетов, автоматов, винтовок, из всего, что под руку попадется. "Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та..."
Ну и день, бог ты мой, какой день! Откинувшись на солому, я смотрю в небо и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела. Считаю ракеты. На это я еще способен. Красная, зеленая, опять зеленая, четыре зеленые подряд.
Чумак что-то говорит. Я не слушаю его.
— Отстань.
— Ну, что тебе стоит... Просят же тебя люди. Не будь свиньей.
— Отстань, говорят тебе, чего пристал.
— Ну, прочти... Ну, что тебе стоит. Хоть десять строчек...
— Каких десять строчек?
— Да вот. Речугу его. Интересно же... Ей-богу, интересно.
Он сует мне прямо в лицо грязный обрывок немецкой газеты.
— Что за мура?
— Да ты прочти.
Буквы прыгают перед глазами, непривычные, готические. Дегенеративная физиономия Гитлера — поджатые губы, тяжелые веки, громадный идиотский козырек.
"Фелькишер беобахтер". Речь фюрера в Мюнхене 9 ноября 1942 года.
Почти три месяца тому назад...
"Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну, и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места.
Это говорю вам я — человек, ни разу вас не обманывавший, человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю, вы верите мне, и вы можете быть уверены, я повторяю со всей ответственностью перед богом и историей,— из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики..." Чумак весь трясется от смеха.
— Ай да Адольф! Ну и молодец! Ей-богу, молодец. Как по писаному вышло.
Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.
— А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот.
— Что "почему"?
— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все—таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?
У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.
— Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь.
Я встаю и, шатаясь, выхожу в отверстие, бывшее, должно быть, когда-то дверью.
Какое высокое, прозрачное небо — чистое-чистое, ни облачка, ни самолета. Только ракеты. И бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга — широкая, спокойная, гладкая, в одном только месте, против водокачки, не замерзла. Говорят, она никогда здесь не замерзает.
Величайшая русская артерия... Парализована, говорит... Ну и дурак! Ну и дурак! В нескольких домах сидят еще русские. Пусть сидят. Это их личное дело...
Вот они — эти несколько домов. Вот он — Мамаев, плоский, некрасивый. И, точно прыщи, два прыща на макушке — баки... Ох, и измучили они нас. Даже сейчас противно смотреть. А за теми вот красными развалинами,— только стены как решето остались,— начинались позиции Родимцева — полоска в двести метров шириной. Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!
А Чумак спрашивает почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня — почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. "Зачем добро бросать — пригодится". Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его — бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня — почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленый такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.
Эх, Чумак, Чумак, матросская твоя душа, ну и глупые же вопросы ты задаешь, и ни черта, ни черта ты не понимаешь. Иди сюда. Иди, иди... Давай обнимемся. Мы оба с тобой выпили немножко. Это вовсе не сентиментальность, упаси бог. И Валегу давай. Давай, давай... Пей, оруженосец!.. Пей за победу! Видишь, что фашисты с городом сделали... Кирпич, и больше ничего... А мы вот живы. А город... Новый выстроим. Правда, Валега? А немцам капут. Вот идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяла. О Берлине вспоминают, о фрау своих. Ты хочешь в Берлин, Валега? Я хочу. Ужасно как хочу. И побываем мы там с тобой — увидишь. Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим на минутку, на стариков моих посмотреть. Хорошие они у меня, старики, ей-богу... Давай выпьем за них,— есть там еще чего, Чумак?
И мы опять пьем. За стариков пьем, за Киев, за Берлин и еще за что-то, не помню уж за что. А кругом все стреляют и стреляют, и небо совсем уж фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то совсем рядом наяривает кто-то на балалайке "Барыню".
— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.
— Чего там еще?
— Начальник штаба вызывает.
— А ты кто такой?
— Связной штаба.
— Ну?
— Велено всех к восемнадцати ноль—ноль собрать. На КП в овраге...
— С ума спятил!.. Какого лешего. Сегодня выходной, праздник.
— Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, и я передал.
— Да ты толком объясни. А то — приказал, передал... На банкет, что ли, вызывают? По случаю победы?
Связной смеется:
— Северную группировку, слыхал, завтра будут доканчивать на "Баррикадах". Нашу и Тридцать девятую бросают туда.
Вот те на!..
Чумак ищет в темноте бушлат, пояс. Шарит по земле. Лисагор отряхивает солому с шинели.
— Валега, собирай манатки и живо за Гаркушей. Во втором дворе отсюда, в подвале. Раз—два...
Валега срывается.
— Лопаты чтоб не забыл, смотри,— и повернувшись ко мне: — Ну, что ж, инженер, пошли НП копать. С места в карьер — мозоли наращивать.
— Лопат хватит?
— Хватит. Каждому по лопате. Мне, тебе, Гаркуше, Валеге. За ночь сделаем — факт. А может, и в доме где-нибудь пристроимся из окна... Пошли.
На улице слышен зычный чумаковский голос:
— В колонне по четыре... Стр-р-роевым. С места песню... Ша-а-агом марш!
А во взводе у него всего три человека.
Лисагор хлопает меня по плечу.
— Не вышло нам к Игорю твоему сходить. Всегда у нас с тобой так... Завтра придется. Даст бог, живы останемся.
Где-то высоко-высоко в небе тарахтит "кукурузник" — ночной дозор. Над "Баррикадами" зажигаются "фонари". Наши "фонари", не немецкие.
Некому уже у немцев зажигать их. Да и незачем. Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержантик — молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой. Подмигивает нам на ходу:
— Экскурсантов веду... Волгу посмотреть хотят.
И весело, заразительно смеется.
1946